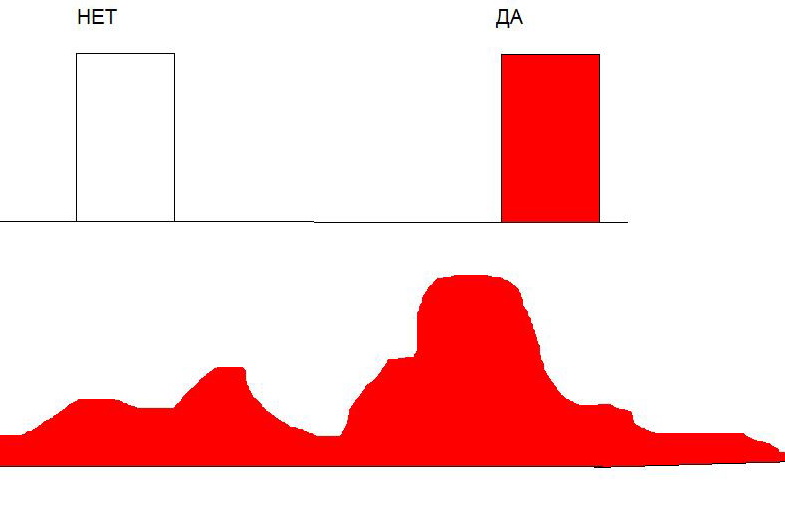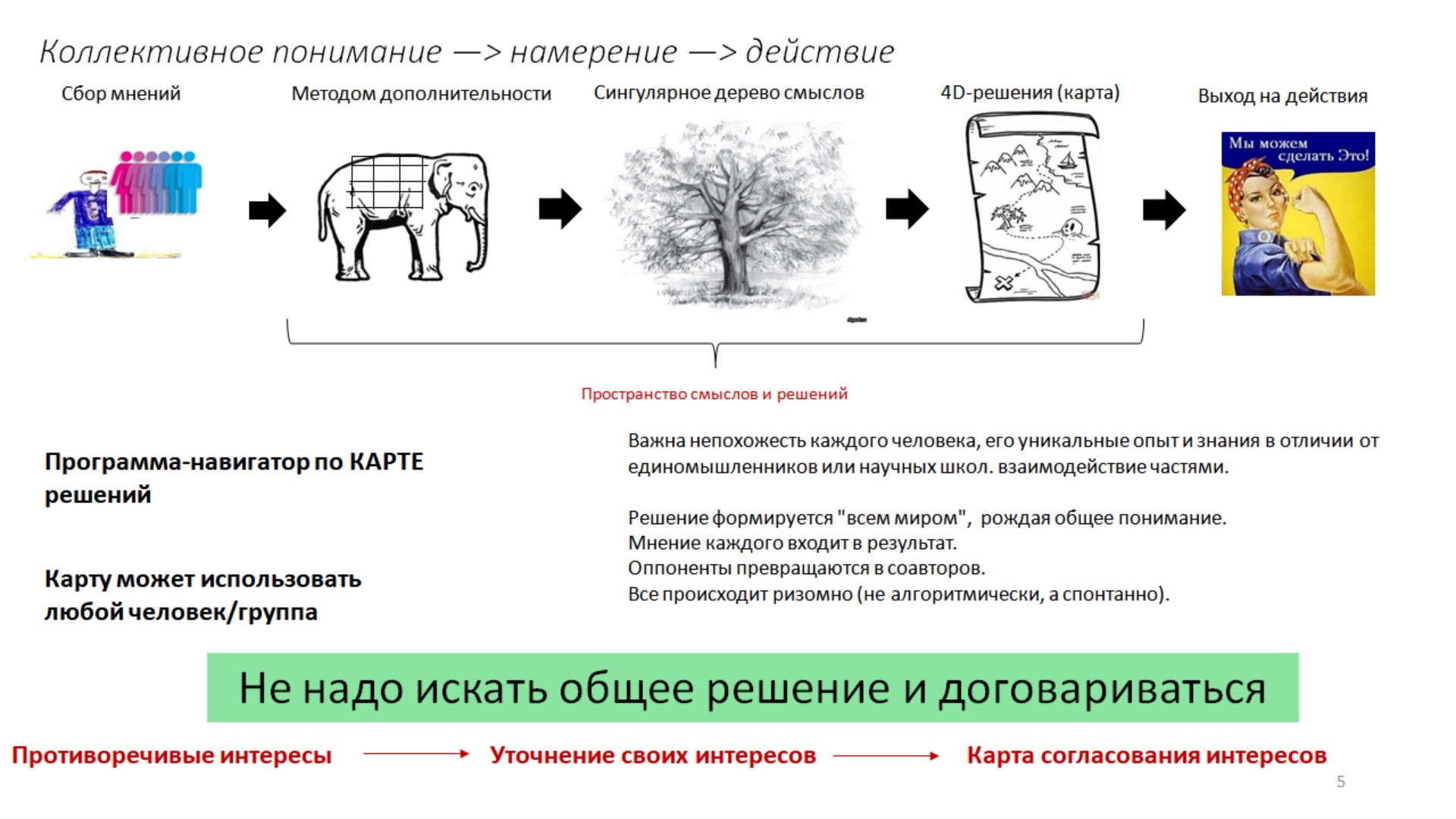Континуальная логика
Ресурсы
- Полный цикл "социализации" от конфликта до СОвместного бытия
- Знания человека и человечества
- Принципы диалектического мышления
- СЕТЬ для "синергетики"
- 26/03/2019. Это сладкое слово «Континуум»
- зачем послали к Константину?
- отвлечь Мельника?
- согласился с Павлом сразу
- континуальное восприятие меня (Костю)
- из-за слишком дискретной логики П.
- Ж. не зафиксировал предел
- континуальность
- фрагментарно пользуюсь
- философы любят переходить из логики в логику
- континуальная речь
- чаще всего обладают актеры, политики, дикторы телевидения
- восприятие окружающего мира
- что-то объединяющаю
- недискретность
- беспрерывность
- вневременность
- всегда предлагаю начать с формирования звезд
- максимальный горизонт публики — с Переясловской рады
- это срезает массу подробностей, многие из которых формировали мы своим безучастием
- последовательность порождает дискретность
- отсутствие дискретности — утопия
- когда все про дискретность поговорили — наступает континуальность
- К. как методологический подход
- можем говорить о степени К.
которую можем повышать
- мы не можем достигнуть полной К.
- можем говорить о степени К.
- континуальная логика
- максимально общий охват факторов
- все рассматривать как часть более общего
- добавить "последовательно"
- континуальная — недискретная
- смысл, который закладывают контрагенты
- но так практически никогда не бывает
- к-сть рассматривает внеквантово, внеатомно
- К. как объединение/совокупность дискретного
- ризома — очень континуальна
- виток ризомы прекращается не потому, что достигнута К.
- достаточно уникальный проект
- Континуальность похожа на предел, приближение к...
- можем наблюдать иозменение
- знаем предел, за который не можем зайти
- ПЗ — просто приближение к чему-то, что не может достигнуть
- неполнота Геделя — мы внутри системы
- принципы, зависимости, а не состояния
- не каждая функция стремится к бесконечности
- бесконечность — отсутствие конца, мы его не видим
- многомерность бесконечности не работаем
- работаем с конечными данными — работая с бесконечностью
- в нашей вселенной все континуально
- выдал в себе физика
- нематериальные предметы
- беспрерывность обеспечивается чем-то, что нам не видно
- нам не видно, что за нашими пределами
- в биохимии — континуальность всегда присутствует
- комментарий, когда он прочитан — возвращается к биохимии
- но он не оторван от физики
- очевидность падает, когда степень конт. возрастает
- связь может быть неопределенной
- интерполяция и экстраполяция
- при разном количестве показателей — экстраполяция будет разной, даже радикально
- как Вернадский создал понятие Ноосферы, которое человечество создает и находится под его влиянием
- новый Майдан
- никто долго стоять не будет
- все перетекает одно в другое, благодаря К.
- нам многое не видно для аргументации К.
- в обиходе отсылки к К. — послать куда подальше
- К. разновидность фоновой неизбежности
- надо понять один раз — и почивать в дискретности
- как мы используем термины
- другие понятия
- любовь
- та же история, что и с К.
- честность
- часто дискретизированная
- коррупция
- слишком континуальна
- человек от рождения коррупционер
- честным может стать в силу трагических обстоятельств
- США порождает новые штамы коррупции
- все становится сложнее
- естественные свойства человека не позволяют развиваться
- стабильность, неизменность
- отсутствие изменчивости
- противоположность изменчивости
- неоднозначность
- умный, дурак — понятно
- неумный — не дурак
- слишком континуальна
- любовь
- введение в заблуждение
- пудрят мозги
- сбить с толку
- "шо це було?"
- зачем послали к Константину?
- Поиск
- Google "Континуальное мышление" (446)
- Google "Континуальная логика" (168)
- Яндекс "Континуальное мышление" (842)
- Яндекс "Континуальная логика" (69)
- Google "continuous thinking" (74 000)
- Google "continuum logic" (2 190)
синергия - См. Социальная синергия (сборка)
Публикации
- континуальность как представление о материи
Представления о строении материи находят свое выражение в борьбе двух концепций: прерывности (дискретности) -- корпускулярная концепция, и непрерывности (континуальности) -- континуальная концепция.
- Слово дня - СИНГУЛЯРНОСТЬ
Сингулярность - Это точка, в которой что-то стремится к бесконечности.Она бывает - геодезическая , математическая , космологическая , технологическая , гравитационная.Сингулярность – нечто, происходящее лишь однажды. Точка, к которой события стремились, пока не разрешились уникальным исходом. Взрыв, слияние, освобождение.В точках сингулярности математические функции резко меняют свое поведение: устремляются в бесконечность, переламываются, внезапно обращаются в ноль.В области, где обрывается непрерывная (континуальная) геометрия пространства-времени – и происходит нечто совсем уж невообразимое.Удивительно, что Общая теория относительности сама обозначает границы своей применимости: в сингулярности «не работает» и она. При этом теория не только указывает на саму возможность существования гравитационных сингулярностей, но в некоторых случаях делает их вообще обязательными.Речь, в частности, о черных дырах – объектах колоссальной плотности, которая делает их невероятно массивными для своих размеров.Черная дыра может иметь массу, сравнимую с массой крупной планеты или с миллиардом крупных звезд, но эта масса определяет лишь величину той области вокруг нее, где царит одна лишь гравитация – и откуда не вырваться ничему, ни веществу, ни излучению, ни информации. Размер этой «области невозврата» называется радиусом Шварцшильда, а ограничивает ее горизонт событий, условная линия, по одну сторону которой Вселенная живет своими законами, а по другую властвует сингулярность.Принято говорить, что в сингулярности «законы физики теряют силу». Это не так – просто привычные законы здесь неприменимы, как неприменимы законы классической механики к миру квантовой .Что может быть ещё интереснее? Только теория " обнажённых сингулярностей " !
- "Конкретная математика. Математические основы информатики"
"Конкретная математика. Математические основы информатики"Рональд Л. Грэхем, Дональд Эрвин Кнут, Орен ПаташникЕще одна потрясающая книга от выдающегося ученого, почётного профессора Стэнфордского университета, преподавателя и идеолога программирования — Дональда Эрвина Кнута.В основу данной книги положен одноименный курс лекций Стенфордского университета. Название "конкретная математика" происходит от слов "КОНтинуальная" и "дисКРЕТНАЯ" математика.Назначение данной книги - обеспечить читателя техникой оперирования с дискретными объектами, что совершенно необходимо для математиков, работающих в области информатики. Книга ориентирована, в первую очередь, на практиков и изобилует массой конкретных примеров и упражнений.Как признаются сами авторы, они считают математику развлечением, и они сделали все, чтобы читатели книги получили от ее прочтения не только знания, но и удовольствие.«У нас вышла калифорнийская книга о математике. Книга, которая показывала неформальный стиль классов в Стэнфорде наравне с тем, что я считаю личным манифестом пути занятия математикой» — Дональд Кнут.
- МЕТАНАУКА
Теперь о методе. Пришло время возвыситься до крупных универсальных (надклассовых) единиц, ибо мир вступил в фазу формирования единого планетарного экологического и надцивилизационного субьекта, агента глобальной экономики, истории, культуры и экологии.Революционные выводы и обобщения автор получил благодаря укрупнению масштабов аналитики и целостному междисциплинарному подходу, рождающему на стыках обобщенное мета-знание. Естественные и общественные науки, а также вотчину религий (метафизику потустороннего мира) связывает Диалектика как абстрактно-логическая теория «развития всего», манифестация (Теодицея) чистого Духа (Разума) Вселенной.Этот оригинальный королевский метод познания исходит из оклеветанного марксистами «объективного идеализма» Гегеля, принципа совпадения мышления (сознания) и бытия. Он полностью реабилитирован современной квантовой физикой, сводящей призрак материи к чистой волновой энергии духовного Поля сознающей Вселенной. Ее Дух — это вечный самообусловленный генератор Сознания, его энергии и информации. Мы держимся и питаемся энергией видимого Солнца. Питаемое же незримым Духом (Богом) вселенское Сознание и составляет наше непосредственное бытие как духовных самосознающих существ. Вселенский Разум — это мощный «суперкомпьютер», который порождая, одновременно, считывает (кодирует) элементарные частицы из глубин творческого вакуума-ничто. Поэтому Дух-Сознание (квантовое информационное Поле) мы и берем за абсолютное (метафизическое) первоначало всего. Вселенский Дух и порождает и воспроизводит единый (континуально-волновой) мир, лишь по видимости распадающийся на физический, биологический, социальный и духовный миры.Мы прослеживаем эволюцию Вселенной с самого начала (нулевой точки), взрыва и ускоряющегося расширения Вселенной. Ее Дух как субстанция («причина себя») изначально раздваивается на противоположности (духовное ядро атома — порождаемая им электронная оболочка) и снимает их в рамках новой полярности («ядро клетки — мембрана»), поднимаясь к следующему — социоисторической «клетке». Это начало-противоречие: «организующий историю космический Разум (Ядро-дух скотоводов) и подчиненная ему, преобразующая природу техно-Мембрана земледельцев».Тут чистый Дух через информационное Поле Вселенной (сверх-Сознание) порождает «свое другое» — соответствующую себе «мембрану» Духа — рефлектированную в себя бессмертную душу (квантовую монаду). Она — посредник между чистым вселенским Духом и материально-чувственным живым миром. Так, через квантовую монаду-душу Вселенная замыкается в круг, завершает свою эволюцию.Когда порожденное оболочкой/мембраной или динамичной каиновой технокультурой новое содержание выходит за пределы старой организационной матрицы Вселенной, она перезагружает свой устаревший «Windows» и из недр Духа порождает новое организационное ядро (более мощный «Windows» нового поколения), делая квантовый скачок к новой форме развития Духа. От физического мира атома — к биологическому миру клетки, затем — к социоисторической «клетке» (социуму) с осмысленной бессмертной душой человека.Западная позитивистская наука считает первобытный коммунизм евразийских скотоводов и саму их культуру тупиковой ветвью эволюции, а их самих дикарями. И берет за исходную основу развития человечества оседлое общество, которое было снято последующими типами оседлого же (аграрно-феодального, потом — индустриально-капиталистического) европейского общества. Отсюда, из их ложного плоского Начала следует такая же ложная плоская интерпретация финала истории, где «хозяева истории» надеются остаться навеки на вершине пищевой цепочки.В книге разоблачается марксизм, либерализм и т. д. как части (ступени) реализации Римского (библейского) проекта. Это суперформация римского Домината или Римская (предысторическая) суперформация. От неприкрытого рабовладения и римско-католического христианства через феодализм она перешла к капиталистической (протестантской) форме эксплуатации большинства человечества. И ныне, в проекте технотронного концлагеря и трансгуманизма эти «пастухи» пытаются вновь вернуть историю к римской первооснове, но уже в комплексном (тотальном) формате власти и над телами, и над душами зомбированного людского «стада».Но вопреки западной науке всемирная история движется по спирали, имеет иное начало и иной конец — первобытный коммунизм скотоводов-арийцев. И самое главное — нет бесследно исчезающих друг в друге временных формаций, а есть сквозное синхронное взаимодействие насельников двух формационных плит («месторазвитий»). Это Ордынская коммунитарная сетевая суперформация (охотников и скотоводов-универсалов), или евразийская степная мегаплатформа. Она всегда воевала с римской рабовладельческой суперформацией и руками Атиллы разрушила ее.Классическую форму евразийская платформа обрела в империи Ч, который подчинил потамический Римленд Разуму на принципах тэнгрианского эгалитарного миропорядка, равного для всех людей, зверей и растений. И она вновь воскресает — в полном соответствии с неумолимыми законами диалектики. Место главного актора Эры Рыб — европейского иудео-христианского исторического субьекта займет еще более древний исторический субьект Авель, вольный скотовод-Прометей, который некогда и породил как под-систему всю Древнюю и Античную европейскую культуру подневольного Каина-технократа.Почти полностью истребленный им Авель-коммунитарист ждет своего часа — осмыслив украденную у него книжником-Каином всемирную историю, овладев его культурой, он уже на глазах воскресает, как птица Феникс. В условиях оседлого образа жизни он и создаст указанный хозяйский эквивалент военной демократии и экологической (космической) культуры Тэнгри. Скифская же Русь и по своей элите, и своему месторазвитию, и своей тэнгриано-ведической культуре, и своему языку и менталитету всегда была частью этой великой арийской космопланетарной культуры. Эпоха зомбирования Западом турано-арийцев закончилась, Святая Русь обретет свое древнее скифо-арийское естество и воскреснет из небытия как «царство Правды Белого царя».
- КОНТИНУАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Рассмотренные всеобщие проявления Порядка Природы: процесс изменения, организация объектов и разнообразие связей необходимы для полного комплексного объективного отображения всевозможных проявлений функционирования реальности и достаточны для построения целостной системы упорядоченного субъективного представления о реальности в общем на языке, конкретно параметрически и подробно на основе количественных математических расчетов для практического применения. Именно на основе построения языка, метрики и математики, призванных адекватно отобразить реальность в соответствии с требованием достигнутого развития общества и подтверждается правильность постановки Принципа Порядка Природы. Мир как изменение связанных объектов дает полное представление о проявлении Порядка Природы и никаких других всеобщих принципов, которые бы невозможно выразить через три рассмотренные основные, не имеется.Постулат Порядка Природы, привходящий свыше от Природы и подтвержденный всей практикой жизнедеятельности человека можно выразить вербально как:«Мир есть изменение связанных объектов».Этот постулат подтверждается всей практикой жизнедеятельности человека, выражаемый в общем на языке, отражая необходимые средства для изложения полной законченной мысли, конкретно параметрически отражает основные меры: времени, массы и пространства для оценки процессов, организации и разнообразия реальности, дающие способы построения моделей, и подробности средств количественного расчета показателей: действия, числа, отношения.Континуальная последовательность рассмотрения действительности от & до ? имеет свою обособленную логику.ИЗМЕНЕИЯТеорема изменения процесса действительности имеет универсальный направленный, необратимый процесс постоянного обновления действительности во времени, разнохарактерный с инвариантностью, неизменностью, устойчивостью, постоянством наиболее существенных, абсолютных свойств этой действительности.Наиболее осмысленным проявление Порядка Природы является изменение, воспринимаемое многими органами чувств, особенно наглядное, запоминающееся, интуитивно ощущаемое проявление реальности. Понятие изменение как важнейшее субстанционное представление о действительности.Для общего теоретического подхода необходимо сформулировать как принцип существования природы:«В Природе все ИЗМЕНЕНИЯ происходят во времени направленно». Таким образом, отражается язык изложения этого аспекта действительности, метрология измерения изменений и на последующей схеме отражаются количественные оценки процессов изменения.«В природе все изменяется во времени направленно» вошел в историю как закон ИНЕРЦИИ Галилея, (Галилео Галилей (1564 - 1642 гг.) (ИНЕРЦИЯ - лат. Inertia - бездеятельность, косность), исходя из предельной идеализации действительного положения дел для простоты понимания закона, с допущением о горизонтальной плоскости для движения тела, которой в Природе не бывает, возможности покоя и отсутствие внешних воздействий, что в принципе не может быть. Современная формулировка закона дана Рене ДЕКАРТ «Существуют такие инерционные системы отсчета (ИСО), относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения неограниченно долго». Ньютон включил закон ИНЕРЦИИ в систему законов механики как ПЕРВЫЙ. Мерой инерции в физике принята инертная масса. Эти суждения нельзя вывести непосредственно из практики, так как невозможно исключить все воздействия и иметь идеальные условия.Все изменяется, организовано, связаноОБЪЕКТЫ Все организовано иерархическиДругим непременным проявлением функционирования природы является порядок организации вещей.Принцип организационного строения Мира «в природе все вещи организованы по массе» соподчиненно» нашел свое выражение в древние времена зарождения научного знания в развитом представлении о вещественном построении и вещи как основной категории функционирования мира.Понятие вещь как одна из важнейших субстанций представления действительности испокон веков отражается в представлениях разных культур Китая, Индии, Персии, Греции, Египта. По старославянски Вђшть, а исконно русское Вечь.Порядок организации объектов реальности, который менее ощутим и потому слабее осмыслен теоретически. Хотя утверждение о всеобщей организованности в природе известно издревле, научное исследование этого аспекта Порядка Природы было положено только с постановки проблем тектологии Богдановым А.А., позже нашедших развитие в системных исследованиях.иерархический принцип составленности, входимости.Хотя в классической науке и продолжали развиваться вещные воззрения организации мира. Типа «в порядке вещей», «вещь в себе» Канта, особенно отличился Хедергер: близость вещей, емкость вещей.Но основное значение для классической науки представление о материальной организации развивалось только в Тектологии Богданова и Синергетике современной.ТЕКТОЛОГИЯ (греч. ФЭкфюн - плотник, строитель, творец, лпгпт - учение, слово) Всеобщая организационная наука как общенаучная дисциплина для духовного и вещественного, но своевременно не понятая в 20 - х годах ХХ века. Александр Александрович Богданов - Малиновский (1883 - 1928 гг) Термин ввел Э. Геккель для описания строения живых организмов. «целое больше суммы своих частей» - идет от Аристотеля.Создание КИБЕРНЕТИКИ, первоначально как теории управления в природе и обществе, показало близость идей и принципов с тектологиейСИНЕРГЕТИКА (греч. УхгЭсгпн - со-деятельность, содружество, сотрудничество).Самоорганизация в открытых системах, состоящих из подсистем, междисциплинарное направление научных исследованиях, много внимания процессам эволюции о энергетике, но основное устройство, построение действительности.Использовано применительно к необратимым реакциям в химии - Ларс Онзагер (1931 г.). Автор термина Ричард Бакминстер Фуллер - дизайнер, архитектор, изобретатель. Современное определение дал Герман Хакен (1977 г.) в книге «Синергетика». Распространено в России с 80 годов. Илья Пригожин - Брюссельская школа - диссипативные структуры (1947 г.). Содержание: неравновесная динамика, квантовая и статистическая физика, нелинейная оптика, биофизика, И. И., развитый матаппарат: термодинамики, теории катастроф. групп, тензорного анализа, дифференциальной топологии. В общественных науках много поверхностного, наностного от синергетики.ПОСТАНОВКА организационного строения, подхода.В природе всё организовано из объектов и теоретика должна иметь определенный предмет приложения средств теоретического обоснования реальности. С позиций иерархической организации объектов реальности теоретическому обоснованию подлежат все явления реальности в различных их конкретных обобщениях, в меру выделения как обособленных объектов и отдельных частных составляющих явления.Сейчас этот принцип функционирования природы можно сформулировать как:«В Природе все ОБЪЕКТЫ соподчинены по массе», что отражает
- - язык изложения вещи лингвистику - организацию объектов, построение существующего,
- - метрологию измерения вещей - по массе,
- - математику количественных расчетов - уровни, состояния,
- - особое состояние - неорганизованность самой только организации, равенство сопряженного.
- Большое видится на расстоянии. Трусов Ю. П
Трусов Ю.П. показал, что методология, исследующая логическое устройство и функционирование уже имеющегося знания и даже логически описывающая его дальнейшее развитие, недостаточна, поскольку она не вскрывает генезис (появление в сознании) самой логики, формирование исходных, фундаментальных понятий и суждений, выступающих в качестве логических оснований теории. Такая методология не в состоянии преодолеть "парадокс начала" и возникающую в самом начале проблему выбора между различными фундаментальными концепциями.Перспективным путем, на котором преодолеваются указанные недостатки и трудности, является так называемый "нулевой путь" - путь логической непредпосылочности и феноменальной непредзаданности выявления оснований и построения всей развертывающейся конструкции знания, - путь рефлектирующего открытия.Математическая модель континиума, созданная и выявленная Трусовым Ю.П. как фундаментальное основание математики ( сейчас широко используется в физике, химии, психологии и др.), представляется и всеобщим логическим образом голографического мира. В итоге этой работы сложилась Единая голографическая энерогоинформационная картина и континуальный диалектико-монистический логос мира - континуальная логика.Континуальная основа, разумеется, всегда существовала, но не всегда узнавалась за поверхностью и внешностью явлений и суждений, хотя издревле глубокие прозрения - постижения единства, тождества, прерывности и непрерывности, конечного и бесконечного и т.д., и, в особенности голографический принцип "все во всем" - на эту основу указывали и, порою, даже называли её этим именем, хотя под словом "континиум" нередко односторонне понималась лишь непрерывность.Континиум обладает неисчерпаемой физической ( в широком смысле этого слова) и логической емкостью, возможностью отображений. Возможностям и перспективам континуально-логического мышления не видно границ.Поскольку абсолют, мир континуален, логико-математическая модель континуума дает универсальное средство миропонимания и реализации мироизменения, управления мироэволюцией. Континуально может быть выявлена единая физическая картина мира, глубже поняты физикокосмологические модели "творения мира из ничего", "большого взрыва", природа сингулярностей и т.д. В таком постижении диалектически снимается оппозиция (и вопрос о первичности) материального и идеального, отображения материального в идеальном и воплощения идеального в материальном, креационизма и эволюционизма.Трусовым Ю.П. показана и фундаментальная роль экологии, экологичсеского взаимодействия в процессах становления, функционирования, эволюции явлений мира; разработана общая (абстрактная) теория экологии.Открытый Трусовым Ю.П. Закон несовпадения целей и результатов деятельности, обусловленный тем, что средства, способы нашей деятельности выбираются сообразно поставленной цели, а результаты от положенной в сознании цели не зависят и создаются самой деятельностью, её способами, применяемыми средствами - имеет не только принципиальное экологическое, но и прикладное значение. Так, при решении проблем взаимопонимания и дмалога, он может быть трансформирован следующим образом: "Метод, способ ведения диалога фундаментальным образом определяется взаимоотношением или соотношением (диспозицией, распределением) ценностно-целевых установок участников диалога."В отличии от других исследователей, сама экология в философском обобщенном понимании Ю.П.Трусова выявлена как определенный аспект всеобщей универсальной связи, взаимодействия, как общая теория экологического взаимодействия, то есть взаимодействия любого становящегося, фунционирующего, и эволюционирующего "центрального" объекта и среды, в которой он возникает, существует, функционирует и эволюционирует. Экологический подход в обобщенном плане выступает как центрированный, центральноориентированный вариант системного подхода; любая система для любого своего элемента (подсистемы) выступает как экосистема.В России, Америке, Германии опубликованы 54 работы ученого. Сборник "Проблемы оснований и конструкции знания" вышел посмертно.К сожалению Ю.П.Трусов не успел завершить свои фундаментальные труды: "Философские основы экологии" - тема монографии и одновременно докторской диссертации и "К основам общей теории человека". Судьба распорядилась вопреки его желаниям. Но и то, что сделано этим удивительным человеком, философом, учителем - является достойным вкладом в сокровищницу человеческой культуры, духовности, образования и науки.
- Разное
- Философия информации В.Б. Гухман
Москва, Берлин 2018г
- Нечёткая логика
- Нечёткая логика в информатике
Нечёткая логика — набор нестрогих правил, в которых для достижения поставленной цели могут использоваться радикальные идеи, интуитивные догадки, а также опыт специалистов, накопленный в соответствующей области.Нечёткой логике свойственно отсутствие строгих стандартов. Чаще всего она применяется в экспертных системах, нейронных сетях и системах искусственного интеллекта.Вместо традиционных значений Истина и Ложь в нечёткой логике используется более широкий диапазон значений, среди которых Истина, Ложь, Возможно, Иногда, Не помню (Как бы Да, Почему бы и Нет, Ещё не решил, Не скажу…). Нечёткая логика просто незаменима в тех случаях, когда на поставленный вопрос нет чёткого ответа (да или нет; «0» или «1») или наперёд неизвестны все возможные ситуации. Например, в нечёткой логике высказывание вида «X есть большое число» интерпретируется как имеющее неточное значение, характеризуемое некоторым нечётким множеством. «Искусственный интеллект и нейронные сети — это попытка смоделировать на компьютере поведение человека. А так как люди редко видят окружающий мир лишь в чёрно-белом цвете, возникает необходимость в использовании нечёткой логики».[5]
- Нечёткая логика и нейронные сети
Поскольку нечёткие множества описываются функциями принадлежности, а t-нормы и k-нормы обычными математическими операциями, можно представить нечёткие логические рассуждения в виде нейронной сети. Для этого функции принадлежности надо интерпретировать как функции активации нейронов, передачу сигналов как связи, а логические t-нормы и k-нормы, как специальные виды нейронов, выполняющие математические соответствующие операции.Существует большое разнообразие подобных нейро-нечётких сетей neuro-fuzzy network (англ.) . Например, ANFIS (Adaptive Neuro fuzzy Inference System) — адаптивная нейро-нечеткая система вывода.[4] (англ.)
- Философия информации В.Б. Гухман
- Рассудочное знание
Рассудок рефлектирует дискурсивно в абстрактно-логической форме, поэтому ученые и философы (часто в одном лице), занимавшиеся дискурсивным знанием, прежде всего исследовали логику мышления и связанное с логикой абстрактно-математическое мышление.Логика и математика – предметы исследования логического позитивизма (логицизма, неопозитивизма, логического атомизма) – самой ранней, романтической стадии аналитической философии. Вдохновленные достижениями Г. Кантора, Г. Фреге и Д. Пеано в математической логике, Б. Рассел и А.Н. Уайтхед с ее помощью строго доказали, что вся математика выводится из символической логики, а математическое мышление – не что иное как манипуляция символами согласно предписанным правилам, наподобие шахматной игры. Для этого Рассел и Уайтхед – основатели логического атомизма – вначале "арифметизировали" математику, а затем уже редуцировали арифметику к так называемым атомарным логическим терминам ИЛИ, НЕТ, ВСЕ, НЕКОТОРЫЕ, где два последних – логические кванторы всеобщности и существования. Если математика – символическая логика науки, то всякое научное понятие, суждение и умозаключение, облеченные в математическую форму, должны согласно логическому атомизму подвергаться дедуктивному анализу на предмет их истинности или ложности.В естественном стремлении ученого к научной обоснованности своей теории Рассел пришел к выводу о необходимости логического анализа любых высказываний, ибо только через лингвистические структуры и конвенции (соглашения) мысль, содержащая истину или ложь, становится достоянием знания. В результате возникла расселовская теория дескрипций, основными понятиями которой были предметное значение (референция) и смысл предложений, фраз (впервые эти понятия появились в трудах немецкого математика Г. Фреге). Под смыслом в логике Фреге и Рассел понимали реальность, стоящую за внешней логической формой предложения и значениями входящих в него фраз. Поиск этой реальности через отношения значений фраз составлял, по мнению Рассела, задачу философии. Логика, в свою очередь, отвечала за правильность этого поиска, т.е. за правильность научного доказательства. Истинность или ложность предложений должна определить наука. В этом смысле философия и логика, философия и математика, философия и наука смыкаются в анализе реальности, стоящей за грамматической формой предложений. При этом анализ смысла методически должен быть редукцией, сходящейся к нередуцируемым атомарным предложениям (по аналогии с редукцией операторов абстрактного действия к базисным алгоритмическим структурам в программировании).Итак, логика исследует правильность доказательств, наука – истинность доказуемого, философия – смысл доказуемого через редукцию молекулярных (сложных) предложений к атомарным. Молекулярные предложения получают свое логическое значение (истина, ложь) и, следовательно, ценность от порождающих их атомарных предложений. Спорность последнего утверждения для нас заключается в игнорировании Расселом системного свойства эмерджентности ( "Информациогенез и самоорганизация" .) , которое, впрочем, было описано в общей теории систем (Л. Берталанфи), появившейся на несколько десятилетий позже логического позитивизма.Рассел пришел к выводу, что многие ошибки метафизики обусловлены "плохой философской грамматикой", и надеялся, что новая логика позволит их обнаружить и, возможно, исправить. Предпринятые попытки привели, однако, к известной расселовской "машине антиномий" при анализе асимптотически бесконечных классов "вещей" и действительных чисел. Рассел открыл "ящик Пандоры", обнаружив, что число противоречий в математической и формальной логике может оказаться необъятным. Надо отдать должное Б. Расселу – он счел проблему противоречивости логики при переходе от дискретной реальности конечных множеств к континуальной виртуальности бесконечных множеств интеллектуальным вызовом, требующим ответа, отказ от которого был бы признаком научной немощи (Непрерывная (континуальная) логика как детище теории нечетких множеств Л. Заде появилась позже (1965 г.).) . Рассел создал несколько теорий для решения этой проблемы (зигзаг-теорию, теорию ограничения размеров, теорию типов), которые, однако, не спасли логический атомизм. Поиск атомарных предложений, несущих достоверное априорное знание, приводит всегда к тавтологии, ибо только тавтологии аксиоматичны. Все остальные высказывания носят вероятностный или метафизический характер в зависимости от того, стоит ли за ними опыт (действительность, внешняя сознанию) или идея (само сознание). Из системы априорных тавтологий можно вывести другую систему тавтологий – не более того.Выход из тупика был усмотрен в первой половине ХХ в. в анализе языка (лингвистическая философия) и теории верификации (Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер, М. Шлик, Р. Карнап и др.). Полагалось, что все философские проблемы порождаются и могут быть разрешены так же, как порождаются и решаются логические парадоксы – через порождение и преодоление неправильного понимания логики нашего языка. Философский смысл невыразим через познавательные предложения; сущность вещей нельзя высказать, ее можно только "молча показать в опыте"; язык – лишь вербальный образ реальности (по аналогии с ее графическим образом в рисунке или образом объекта измерения в измерительном приборе). В результате философская проблема аксиоматического знания-базиса сводится к научной проблеме "встречи" познания с реальностью для достижения "радости констатации", "чувства окончательности", но не радости (чувства) истинности, ибо с точки зрения истинности (ложности) все научные высказывания – гипотезы. Философия же – не наука: "…нигде не записано, что Королева Наук сама должна быть наукой" (М. Шлик). В этой концепции просматривается первичная, пока еще чисто феноменологическая идея неполноты логики и ограниченности априорного рассудка.Следствием идей логического анализа языка стала теория верифицируемости Р. Карнапа, согласно которой область осмысленного исчерпывается эмпирически верифицируемыми научными предложениями. Для метафизики по условиям осмысленности нет места: просто не о чем сказать. Всё, познаваемое метафизически, фактуально бессодержательно, незначимо, ибо не проверяемо по критериям истинности.Согласно теории верификации экспериментально-фактуальная подтверждаемость высказывания с помощью так называемых "протокольных" предложений достаточна для его аксиоматизации. Однако возразим, что хотя некоторые опыты (факты) могут подтвердить высказывание, всегда представится случай его неподтверждаемости, например, при выходе за область применимости теории, в рамках которой сделано высказывание. Так, целые пласты высказываний – этические, эстетические, эмоциональные, феноменологические – выпадают из области применимости самой теории верификации. Частично такие высказывания, ничего наверняка не утверждающие, проверяются на истинность, ибо их смысл косвенно связан с объективной реальностью, отражая психологическое и физиологическое устройство высказывающихся субъектов. Правда, этого явно недостаточно для значимых верифицируемых предложений.Но и любые верифицируемые научные предложения релятивны, не аксиоматичны, не протокольны (не атомарны), ибо высказаны ограниченным, конечным (по физическому пространству-времени) человеческим рассудком на основе данных, полученных от ограниченных, конечных (в том же пространственно-временном континууме) органов чувств и приборов. По этой же причине "не срабатывают" и позитивистские теории фальсифицируемости (К. Поппер), пробабилизма (Ч. Пирс), фаллибилизма (Ч. Пирс, К. Поппер), методологического анархизма (П. Фейерабенд).Таким образом, аксиоматичность, истинность любых предложений относительна. Тогда, может быть, истина состоит во взаимном согласии (когерентности) нескольких предложений, где согласие – не тавтология, а непротиворечивость предложений друг другу (теория когерентности)? Но когерентные предложения отбираются субъективно, и не исключено, что наиболее значимыми могут полагаться наши собственные предложения, с которыми мы будем согласовывать чужие предложения, а не наоборот. Если мое – последний критерий, то это тупик.Нам представляется, что проблема состоит в искусственной природе общепризнанных дискретных форм логики (формальной и математической) как дискретного, конечномерного образа мышления, претендующего на понимание и объяснение континуального (или близкого к континуальному), бесконечномерного бытия. Абстрактно-логическим мышлением занимается, в основном, левое полушарие мозга, начиная с определенного возраста владельца, и уже это настораживает. Ведь сознание, мышление, мироощущение и миропонимание – продукты всего мозга или того неведомого Логоса, который, как утверждают апологеты космизма, возможно, использует наш мозг в качестве вторичного инструмента, а не первичного генератора.Более того, у нас нет никаких оснований отрицать участие в мышлении всего тела, ибо состояние последнего непосредственно или опосредованно влияет на сознание и когнитивные акты.Философский поиск смысла реальности, доведенный до результата, тождественен пониманию реальности.Смысл – коррелят понимания. В то же время картезианская наука мыслит рассудочно (дискурсивно, доказательно, объяснительно), но не разумно (целостно, содержательно, понимающе). Чувственно не переживая предмет мысли, рассудочное мышление ведет нас к знанию, но не к пониманию познанного (можно что-то знать, не понимая). Дискретность дискурса как его объективное свойство – негатив мышления, часто упускаемый из виду. Пожалуй, первым на это обратил внимание Л. Заде, предложивший в 1965 г. концепцию нечетких, "размытых" множеств (fuzzy sets), которая привела к развитию, в частности, нечеткой логики и теории приближенных рассуждений: "человек мыслит не числами, а нечеткими понятиями". Б. Рассел в то время основное внимание уделял общественно-политической деятельности и адекватно не среагировал на новую логико-математическую парадигму, впрочем, как и остальные философы. А она заслуживала того.Ведь современные ветви логики (формальная, математическая, машинная и др.) – такие же артефакты, как и человеческие языки. Базирующийся на них дискурс ограничен правилами логического вывода и дискретностью языка, а потому и сам дискретен и запрограммирован логикой и языком. Дискретность всегда беднее континуальности. Комбинаторика букв, конечных слов и фраз дает конечное (хоть и чрезвычайно большое) разнообразие сообщений. Только при потенциально бесконечном алфавите или/и потенциально бесконечных словах (фразах) разнообразие сообщений будет бесконечным, охватывающим континуальность бытия и его понимания, но это нереально.На дискретность дискурсивной логики рассудка налагается дискретность генерирования информации в тезаурусе памяти ( "Информациогенез и самоорганизация" ) – получается своеобразная "дискретность в квадрате". Отсюда проблема адекватности объяснения и понимания.Пример 1. Внутреннее, интуитивное понимание Бога не так-то просто выразить словами ("не помяни имя Господа твоего всуе"), душевную, от сердца музыку, поэзию, живопись невозможно воспроизвести в форме "объяснительных записок", слова любви бледнеют перед языком чувств. Если обратиться к математической теории множеств, то сошлемся на парадокс Ришара, состоящий в том, что лишь небольшая часть действительных чисел допускает словесное определение – язык, пригодный для печатания на клавиатуре, недостаточен для того, чтобы охарактеризовать каждое число (каждую точку континуума) индивидуально. Аналогично дискретизация непрерывного процесса с помощью конечного числа отсчетов скрывает, искажает его истинный характер. Нечто подобное происходит и при вербальной интерпретации понимания с помощью конечного множества комбинаций звуков, фонем, букв и слов.Пример 2. Одномерная континуальная числовая ось не дает доказательного представления о N-мерном пространстве; нужны N таких осей. И в то же время N дискретизированных числовых осей описывают "сеточное пространство", в котором потенциально доказуемы сущности и явления, имеющие место лишь в узлах сетки, но не внутри ее ячеек. Если дискурсивная "сетка" вносит регулятивное начало во входной поток высказываний в рамках дедуктивной системы доказательств, то, очевидно, часть высказываний будет упущена сквозь дыры "сеточной" дискретности, как упускаются рыбные мальки сквозь крупноячеистую рыбацкую сеть, предназначенную для крупной рыбы. Тем более это справедливо для одномерного дискурса.Вообще, любая дискретизация приводит к неминуемым ошибкам познания, объяснения и, в конце концов, к ошибкам понимания бытия. Расчленение познания целого объекта на познание его отдельных свойств, обусловленное ограниченностью средств познания, – это та же дискретизация с неминуемыми ошибками субъективного понимания, даже если каждое из средств в отдельности – аналоговое, а не дискретное по принципу действия. Объект как бы рассматривается в нескольких проекциях и сечениях, число которых конечно и определяется числом средств. Чтобы познать целый объект, это число должно стремиться к бесконечности, что нереально. Арифметика (и математика в целом) – тоже не исключения.Пример 3. Теорема К. Гёделя доказала (1931 г.), что любая адекватная непротиворечивая арифметическая логика неполна, т.е. существует истинное утверждение о целых числах, которое нельзя доказать в такой логике. Кроме того, из этой теоремы следует, что невозможно доказать непротиворечивость арифметической логики (пусть даже неполной) методами, которые выразимы в самой этой логике. Теорема Гёделя ставит под вопрос всеобщность математического языка объяснения (доказательства): "…понятие об истинности (большинства) математических утверждений включает в себя представление о…бесконечных сериях проверок. Между тем всякое математическое доказательство…есть существенно конечная процедура" (Ю.И. Манин).Заслуга Гёделя в том, что он строго математически доказал интуитивно понятные отношения между языком понимания и дискретным математическим языком объяснения, неполноту последнего. Философским следствием теоремы Гёделя о неполноте можно предположить недостижимость абсолютно точного (полного и непротиворечивого) научного объяснения бытия, основанного на математическом дискурсе. В связи с этим математика и основанное на ней естествознание приобретают, помимо "точного", гуманитарный статус. Чем в таком случае восполнить дискурс, компенсировать неполноту его информационной упорядоченности, жесткости, творческой несвободы? Напрашивается ответ – неупорядоченностью, нежесткостью, свободной волей, которые несет в себе иррационализм интуиции, воображения, вчувствования, веры. Иррационализм дополняет конечное бесконечным, дискретное непрерывным, речь интонацией, мимикой и жестом, текст воображением, музыкой и живописью, формальное неформализуемым, объясняемое понимаемым, детерминированное случайным, действительное возможным. В математике и информатике, системах искусственного интеллекта все больший вес приобретает парадигма нечеткой (многозначной, бесконечнозначной, непрерывной) логики. Теорема Гёделя, справедливая для арифметической логики счетных множеств, пока не распространяется на непрерывную логику континуумов. По крайней мере, нам неизвестны подобные приложения этой теоремы и неизвестно, как сам Гёдель воспринял появление новой логико-математической парадигмы.Теорема Гёделя о неполноте логики и последовавшие за ней работы математиков, логиков и философов подправили Л. Витгенштейна, утверждавшего, что "тайны не существует. Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него можно и ответить". Оказывается, тайны существуют, ибо существуют неполнота и противоречивость логики и дискурса, неоднозначность и неверифицируемость их языковых средств, приводящие к недоказуемости многих утверждений (научных и ненаучных).Научный метод принуждает принять результат теории силой своих абстрагированных доказательств в отличие от ненаучного метода, лишенного такого принуждения и потому прибегающего к таким сомнительным средствам, как приведение конкурирующей теории к противоречию, спекуляция на ее ошибках и/или затруднениях, отказ от научной "ереси" в пользу императива веры, которая не требует доказательств. Но доказательство, основанное на единственной методике, единственном аргументе, единственном авторитете, не впечатляет; доказательность должна быть многомерной, полиморфной. В отличие от веры, обращенной к чувству, доказательство взывает к рассудку, но, как показано выше, рассудочное (дискурсивное) знание полезно, но не полно: "жизнь бесконечно полнее рассудочных определений, и потому ни одна формула не может вместить всей полноты жизни" (П.А. Флоренский "Столп и утверждение истины").И тем не менее возведение дискретности в причину неполноты и противоречивости дискурса при ближайшем рассмотрении не столь очевидно. Фортепиано ведь тоже дискретно, как и нотный стан, а как доказателен Шопен! Глупость и ненависть континуальны, но как они бездоказательны!Для доказательства в дискурселюбые возмущения парируются с помощью математической логикиПредставим дискурс как регулятор, дедуктивное доказательство некоторого утверждения (теоремы) как объект регулирования (управления), поток высказываний как возмущения объекта, логику как управляющее воздействие дискурса на доказательство, а значимость высказываний как выходную реакцию объекта., но чтобы парировать все возмущения дедукции не хватает многомерностиШкала значимостей формальной и математической логики ограничена малым объемом шкальных значений ("истина" и "ложь"), и в это прокрустово ложе значимости должны быть втиснуты через доказательство все высказывания. Такая логическая система управления гомеостатична. Следовательно, она должна подчиняться информационному закону необходимого разнообразия управлений ( "Информация и управление" ). Согласно данному закону разнообразие высказываний (возмущений) парируется разнообразием логических операций (управлений).Каждый объект – дедуктивное доказательство – может быть возмущен практически бесконечным множеством высказываний. Значительная часть этих высказываний внерассудочна и метафизична. В то же время узость (одномерность) пространства логических управлений доказательством (даже с учетом вложенности, иерархичности этих управлений) не позволит парировать все высказывания. Дедукции не хватает многомерности, в результате нарушается закон необходимого разнообразия и гомеостаз доказательства.В результате имеем остаточную неопределенность доказательства, характеризующую неполноту логики.Следствие – остаточная неопределенность доказательства, имеющая, как мы знаем, информационное измерение ( "Физика информации" ) и характеризующая неполноту логики.Пример 4. Физические соотношения неопределенности имеют информационное измерение и в известной мере тоже характеризуют неполноту логики физических доказательств. В частности, соотношение неопределенностей Гейзенберга – Бора характеризует неполноту логики доказательств квантовой физики. Дж. фон Нейман в 1932 г. доказал, что эта неполнота из-за неработоспособности законов причинности на субатомном уровне не может быть преодолена никаким "точным" измерением значений гипотетических "скрытых переменных". Теория Неймана создает иллюзию "логической полноты квантовой физики", что не способствует продвижению вглубь (например, к кваркам): "…очень интересной и перспективной возможностью являются законы субквантовомеханического уровня, содержащего скрытые переменные (Бом Д. "Причинность и случайность в современной физике", 1959.)" . Этот пример не случаен – просматривается общность природы подобных неопределенностей, обусловленная дискретностью (квантованностью) логических моделей и недостаточной мерностью логик.Пример 5. В социологии известен эффект нетранзитивности матриц парных сравнений, когда респондент, предпочитающий объект А объекту Б, а объект Б объекту В, неожиданно для социолога может предпочесть объект В объекту А, чем нарушает транзитивную логику: если А лучше Б и Б лучше В, то А лучше В. Но такова данность противоречивой многомерной логики респондента, и социологу ничего не остается, как считаться с ней.Пример 6. Создатели компьютерных сетей во избежание проблем неполноты и противоречивости (конфликтности) взаимодействий прикладных программ реализовали многоуровневую систему протоколов связи, что является ничем иным, как технической реализацией многомерной логики взаимопонимания открытых кибернетических систем (рабочих станций, серверов, хостов и т.п.).Формальная логика (Аристотель и др.) – продукт человеческого рассудка, основанный на человеческом опыте, но абстрагированный от последнего, как и положено дедуктивному методу. В результате вместо конкретных вещей – Солнца, этого муравья, того камня, Сократа, моей мысли – формальная логика имеет дело с абстрактными классами вещей – звездами, муравьями, камнями, греками, мыслями – в лучшем случае, с некоторыми из них, где "некоторые" – логический квантор, но никак не переход к конкретным вещам. Логика оперирует с классами в силлогизмах, пропозициях и предикатах, не заботясь об индивидуальности элементов класса. И если в высказывании упоминается конкретный Иван, то для логики он равнозначен "некоторому русскому". Однако есть высказывания, достоверность которых зависит от индивидуального значения слов, обозначающих вещи. В этой ситуации формальная логика бессильна; она не улавливает индивидуальные значения слов своей дискретной "сетью", предназначенной для более крупной "рыбы" – классов вещей. Здесь важно семантическое измерение, обладающее, по-видимому, меньшей дискретностью, чем формально-логическое измерение, и потому используемое в языках понимания. На уровне понимающего мышления требуется принципиально другая логика, возможно, кантовская трансцендентальная логика, предметом которой являются не столько формально-логические конструкции высказываний и предикатов, сколько их смыслы и ценности для рефлектирующего субъекта.Если нам не хватает для доказательства лингвистического, семантического или какого-то другого антропного логического измерения, что ж, мы вправе обратиться к внечеловеческой логике, например, логике фауны или флоры, к логике других цивилизаций, оставивших следы памяти в информационном поле. Иными словами, мы должны не пренебрегать другой логикой, а изучать ее как продукт другого разума, имеющего дело с другим опытом. Эти другие логику, разум, опыт мы не заключаем в кавычки, полагая, что только высокомерие человека игнорирует и даже отвергает их без должных оснований, даже когда человек со своими логикой, разумом и опытом оказывается перед тупиковой проблемой. Тупик – это знак для поиска в других направлениях, других измерениях. Логический тупик не исключение. Полагаем, что только полиморфный логический вывод позволяет в рамках закона необходимого разнообразия управлений успешно регулировать гомеостаз системы мыслимых доказательств.Максимы единства знания единого Универсума и методологического полиморфизма не противоречат друг другу. Именно для достижения первой максимы так важно придерживаться второй. Методологический мономорфизм во все времена приводил к застою и заблуждению, ибо, сам того не подозревая, нарушал закон необходимого разнообразия тем, что не парировал разнообразие опытных данных методологическим регулятивным разнообразием. Логика мономорфизма: "если непонятно, значит, ложно". Логический мономорфизм не позволяет оптимально перекодировать разнообразие высказываний в собственное разнообразие дедукций с целью эффективного управления доказательством. Но ведь логика несет ответственность за правильность доказательств.Дискурсивная левополушарная логика рассудка должна быть дополнена логикой других измерений – целостно-образной правополушарной логикой чувства и сверхчувства (интуиции, под- и надсознания, веры), логикой ноосферы. Тогда, возможно, она приблизится по своим свойствам к понятиям полноты и непротиворечивости.Пример 7. Философское доказательство сводится обычно к защите выдвинутой концепции и часто базируется на весьма далеких друг от друга доктринах (научных, политических, философских, экономических, этических, эстетических и пр.). При этом, в отличие от логики и науки, философия за правильность и истинность доказательств никакой ответственности не несет. Поиск смысла высказываний безответственен, не наказуем, направленность вектора поиска произвольна, рефлексия имеет бесконечное число степеней свободы.Философ может, но не обязан дедуцировать в своей рефлексии. И тем не менее, рефлектируя (логически дедуцируя или фантазируя вне логики), философ обосновывает свою концепцию, свое видение исследуемой проблемы с единственной целью – он добивается (пусть и непроизвольно) апостериорного минимума неопределенности доказуемого, т.е. максимума информативности. В максимизации информативности доказательства смыкаются цели логики, науки и философии. Было бы странным, мягко говоря, философствование, не преследующее этой цели, когда априорная неопределенность высказываний, смысл которых философ должен был бы прояснить, ни на йоту не уменьшилась или уменьшилась несущественно.Средства максимизации информативности доказательства должны быть связаны с семантикой доказуемых утверждений. Чем глубже утверждения, т.е. чем большее разнообразие состояний утверждаемых сущностей или явлений эти утверждения описывают, тем больше должно быть и разнообразие средств доказательства, адекватных содержанию доказуемого утверждения. Назовем это свойство валидностью доказательства (valid (англ.) – действительный, имеющий силу – от validus (лат.) – здоровый, сильный). Напомним, что логика доказательства отвечает за его правильность, но не за истинность его исходных посылок и результата, а канал связи (между источником и потребителем доказательства) не отвечает за содержание переданного доказательства.Пример 8. Если утверждение явно или опосредованно содержит информацию о биофизических и математических феноменах, то валидное доказательство должно использовать адекватные биофизические и математические законы и закономерности в их логической взаимосвязи для полной, непротиворечивой аргументации. Если утверждение классифицируется как этическое, эстетическое, эмоциональное, метафизическое и т.п., то валидное доказательство (если оно возможно) должно использовать адекватные средства, выходящие за рамки логики с ее информационной упорядоченностью, структурной жесткостью, творческой несвободой.Валидность доказательства аналогична омическому и амплитудно-фазо-частотному согласованию электрического канала связи с нагрузками по входу-выходу. Без такого согласования значительная часть энергетического спектра электрического сигнала может быть утеряна в канале связи. Аналогично невалидное доказательство как информационный процесс разрушает свою информативность, свое разнообразие логической несогласованностью доказательных средств. Но как бы мы ни старались, число таких средств конечно, и в результате доказательство не достигает цели стопроцентно. Обязательны недопонимание и вопросы. По опыту, новый материал оказывается воспринятым и понятым максимум наполовину даже коллегами, не говоря об учащихся. Причины кроются не только во внутренней невалидности доказательств, но и во внешних факторах: ограниченности оперативной памяти потребителей, помехах в канале связи (передачи-приема), недостаточных чувствительности приема и пропускной способности канала связи, невостребованности доказательств. Для компенсации этих факторов в "код доказательства" вводится избыточность (повторение, кодовая многомерность), изменяется (перекодируется) форма доказательства.Понятие информативности доказательства не может игнорировать его длительности. Ведь производительность источника доказательства и пропускная способность канала связи – темповые характеристики (измеряемые в бит/с), которые должны быть согласованы между собой (См. также критерий эстетического качества Гемстергейса – тема 3, раздел 3.5.).Применительно к темповой информативности доказательства приобретает реальный смысл принцип надежного кодирования Шеннона: если темп производства информации в процессе доказательства не превышает возможностей (пропускной способности) потребителей, то доказательство всегда можно закодировать так, что оно будет передано потребителям без задержек с вероятностью ошибки, сколь угодно близкой к нулю (но не равной нулю).Что касается неоднозначности вербального кодирования, то, полагаем, что предпочтение, отдаваемое ему по традиции большинством гуманитариев, в частности, философами, перед другими формами кодов неубедительно, если учесть особенности мышления потребителей. Для потребителей с развитым абстрактно-логическим мышлением предпочтительными являются дискурсивные коды формальной логики, математики, естествознания. Для потребителей с развитым целостно-образным мышлением предпочтительны графика, "эйдетические" коды, гештальты. Обратим также внимание на специфические внутрисистемные помехи, создаваемые каналу передачи доказательства потребителями этого доказательства. Подобные помехи субстрагируются в виде априорных установок потребителя, сопутствующих или препятствующих приему доказательства данным потребителем. Эти помехи объективны в том смысле, что любое субъективное мышление в процессе приема (восприятия) доказательства обладает априорной информацией, в общем случае не совпадающей (в лучшем случае частично совпадающей) с исходными посылками логики доказательства и ее кодами. Эта информация в той или иной степени конфликтует с доказательством, мешает его адекватному приему, недопустимо загрубляет вход приемника, повышая сверх меры пороги обнаружения и различения сигналов. При особо интенсивных помехах возможны коллизии типа "не хочу (не могу) понять", "не понимаю, значит, неправильно" и т.п. Для компенсации подобных внутрисистемных помех следует вводить адекватную им избыточность в логику доказательства, например, через механизмы повторения, апробирования, аналогий и т.п.Особый подкласс внутрисистемных помех составляют помехи, создаваемые языком.Пример 9. Командные языки управления (в армии, программировании, автоматизированных системах управления и др.), научно-технические языки, языки математики и логики, нацеленные на однозначные информационные понятия, суждения и умозаключения, часто не достигают цели, ибо подвергаются неосознанному, объективному мешающему воздействию неоднозначных языков (обыденного, литературного, публицистического), привычных и неизбежных для любой языковой среды. Эти языки-помехи создают так называемый языковый шум, не позволяющий даже самому организованному языку – искусственному языку программирования – добиться однозначности. Начиная с определенного порога сложности, ни одна программа не работает без ошибок, многократно редактируется, и все равно "самая грубая ошибка будет выявлена, лишь когда программа пробудет в производстве по крайней мере полгода" (А. Блох. Закон Мэрфи). Тщательный анализ причин алгоритмических (наиболее опасных) ошибок в программировании (в грамматике это синтаксические ошибки) показывает, что у неопытных программистов в большей, у опытных в меньшей степени проявляется влияние языкового шума, выражающееся в неосознанных попытках навязать командному языку программирования логические структуры обыденного языка. Языковый шум вносит свою лепту в ограниченность рассудочного (дискурсивного) знания.Осмыслим результаты. Чтобы доказать свою правоту, человек тратит массу ресурсов, пишет книги, доносы, диссертации, проводит длительные дорогостоящие опыты и изнурительные дискуссии, затевает войны, убивает, погибает сам (иногда геройски) – и все это ради одного или нескольких бит информации, за которыми эфемерные истина или ложь! Какова же цена информации, заключенной во всех апробированных доказательствах человека и исчисляемой многими триллионами бит?! И сколько потерь понес человек в процессе ее добычи, доказывая свою правоту ценой здоровья и даже жизни, а также силой, измором, дезинформацией, подкупом?! Что полезного, кроме явного вреда, дали и дают человечеству антагонистические отношения культур, опирающихся на различные религиозно-конфессиональные или политико-идеологические платформы, на двоичную ("черно-белую") логику мышления "моя прав, твоя не прав"?Такова цена единицы информации – бита – неизмеримо бoльшая по сравнению с ценой единицы энергии или единицы массы вещества. Во-первых, это косвенно свидетельствует о существенно большей ценности информации (идей, знаний) по сравнению с материей и ее энергией (информационная экспансия), во-вторых, – о невостребованных пока резервах разума человека. Если эти резервы в обозримом будущем не включатся в работу, следует говорить уже не о резервах разума, а о неразумности человечества. Доказать нечто можно только посредством логики плюрализма, посредством взаимопонимания, достигаемого в некоем полевом взаимодействии через его информационную компоненту при исключении искажающего влияния силовой компоненты. Традиционное информационно-энергетическое, "затратное" доказательство как управление должно уступить место чисто информационному, ресурсосберегающему взаимопониманию как связи. Именно в этом заключается, по нашему мнению, герменевтическая суть диалога культур; реализация же усматривается в без- или малоэнергетических информационных процессах, ориентированных на язык понимания и исключающих шумящие знаковые преобразования кодирования – передачи – декодирования информации традиционного дискурсивного диалога.
- Ризоматическая логика
(Оптимальный инструмент для выбора пути развития цивилизации планеты)ВступлениеНеистощим творческий энтузиазм доктора технических наук Виктора Фёдоровича ШАРКОВА, помноженный на искреннюю озабоченность дальнейшими путями развития современной науки.Вот и сегодня мы предлагаем вниманию читателей ещё одно присланное в редакцию журнала его рассуждение на эту тему (см. также «Дельфис» № 2 (78) / 2014).Конечно, в главном можно согласиться с автором: ко всему в природе и социуме должен быть проявлен всесторонний подход, закреплённый в соответствующих методах. С некоторыми позициями, правда, можно и поспорить (но это уже в следующем номере).Так, очевидно, что необходимо сохранить поклонение к образу древа, присутствующему в огромном числе процессов и явлений. А вот модель удивительного растения ризомы, растущего без центра и во всех направлениях##[*], хотя и перспективна, но, как можно думать, дополнительна идее направленного развития, поддерживающего принципы инвариантности, или, мы говорим, аналогии.Однако послушаем автора.РИЗОМА – грибковое корневище, как бы являющееся и вершками, и корешками самого себя.ЭнциклопедияНовый метод управления процессами↓Трудно, но нужно найти в себе смелость признать, что в начале XXI века на наших глазах происходит смена научной парадигмы – реализуется переход от техногенной (библейской) цивилизации к новой системе построения человеческого сообщества.Нам, простым смертным, не дано детально, в режиме on line описать смену эпох, но некоторые новые принципы уже приобрели вполне определённое содержание или как минимум чёткие контуры. Понятно, например, что нужно срочно найти способ одновременно управлять множеством параметров различной размерности. Надо научиться сопрягать несопрягаемое: тонны и километры, духовное и телесное….Вот для этого принципиально неарифметического сопряжения может оказаться полезной новая так называемая ризоматическая логика. Она создаёт основу нового миропонимания и включает реальный эффективный механизм действия нового метода управления социальными, техническими и научными процессами.Логике Аристотеля пора на заслуженный отдых↓Предстоит отказаться от привычной логики Аристотеля, в основе которой лежит процедура выбора «вектора цели» путём построения «древа цели». Задача управленца в этом случае сводится к определению главного ствола этого «дерева» и отсечению боковых веток, «отвлекающих от главного направления». Более 2000 лет эта логика весьма эффективно использовалась для управления обществом, государствами и его структурами, в том числе науками и научными сообществами.Но любым авторитетам, даже древним грекам, рано или поздно приходится «уходить на заслуженный отдых».Построение "тензора цели"↓В XXI веке всё острее ощущается необходимость в поиске новых способов управления развитием и техники, и общества. Очень вероятно, что таким способом станет ризоматический подход к построению «тензора цели» – многомерного вектора. Вместо двумерного «древа цели» или «вектора развития» нужно будет строить N-мерную численную матрицу для расчёта оптимального пути развития в пространстве, содержащем огромное количество переменных факторов. Это эффективное средство для многофакторной оптимизации в том, однако, нетривиальном смысле, что факторы здесь могут иметь абсолютно разную природу и размерность (и инженерную, и духовную одновременно).Отказаться от закона сохранения размерности↓Но прежде предстоит сделать поистине «героический» для «настоящих учёных» шаг: отказаться от одного из самых главных и «абсолютно верных на все времена» научных принципов XX века – закона сохранения размерности. Для многих учёных и инженеров он архиважен, вероятно, даже важнее закона сохранения энергии. Именно принцип сохранения размерности сыграл огромную созидательную роль в развитии техники.Однако в XXI веке в этот закон почти наверняка будут внесены существенные поправки, изменяющие границы его применимости. Ныне физики убеждены в «очевидной» целесообразности вечной консервации принципов инвариантности, многие из них кажутся им нерушимыми. Но уже нельзя не видеть, что через бастионы «нерушимых истин» прорываются животворные ростки нового…От «компаса Аристотеля» к «камертону ризомы»↓Сегодня «компас Аристотеля» должен быть заменён на «камертон ризомы». Новому управленцу, как путнику в поисках оптимального пути, теперь надо «звучание своих шагов» периодически проверять на фальшь с помощью камертона – источника идеально правильных, калиброванных звуков. Примерно по такой схеме работает сапёр с миноискателем.Ризома-компьютеры↓Пора вспомнить приятную для всякого русского патриота легенду (или быль?) о том, что российские математики из Института математики им. В.А.Стеклова (1863/64–1926, советский математик, академик АН СССР) ещё в 30-х годах прошлого века разработали соответствующий математический аппарат для внедрения ризоматической логики. В частности, эта математика успешно применяется в так называемых квантовых компьютерах, где вместо тривиального перебора вариантов используется схема одновременных параллельных расчётов cразу по множеству путей с периодическим «схлопыванием» промежуточных результатов между собой. Легко представить, какие сказочные прикладные перспективы имеют такие ризома-компьютеры.Ризомная логика и внешние воздействия на кристалы↓Сказки, однако, раздражают практиков. Тем более что в ризоматитической логике много противоречий, можно сказать, вся она состоит из противоречий – в этом её суть. Это оружие обоюдоострое. Сначала оно порождает или, точнее, обнажает проблемные ситуации, а потом решительно их рассекает и решает…Самое время прагматикам потребовать «инструкцию по применению» нового метода управления. Что тут ответить?
- Во-первых, мои заметки содержат лишь ориентиры развития ризома-метода, а детальные «инструкции», как известно, не входят в жанр заметок.
- А во-вторых, великие мира науки уже многое сделали для решения этого вопроса. Например, Пьер Кюри ещё 100 лет назад предложил конкретную математическую процедуру применения фактически ризоматической логики для описания внешних воздействий на кристаллы (Кюри П. Избранные труды, Изд. М. – Л.: Наука. 1966, с. 60). Учёный-классик науки, как это бывает, опередил время: «дисимметрия по Кюри» – по сути ризоматическая логика, позволяющая изучать многие физические взаимодействия и прогнозировать их результаты.
Ризома в музыке и философии↓Лучшие представители творческих специальностей (музыканты, художники) также используют в своём искусстве ризоматическую логику, здесь они намного опередили «технарей». Всемирно известная группа «Роллинг Стоунз» – тому яркий пример; название их группы «Перекати-поле» – это вариант ризомы, растения без вершков и корешков. А их музыка, как мне кажется, замечательно гармонизирована как бы с помощью того самого «камертона», о котором сказано выше.Некоторые философы и искусствоведы предпринимали попытки исследовать феномен ризоматической культуры. По их мнению, любая упорядоченность cо временем непременно приобретает древовидную конфигурацию. Деревом проросла, как полагают Ж.Делёз2 и Ф.Гваттари3 (Delenze G., Guanttari F. Rhizome: introduction. Paris, 1976), вся западная культура, что значительно ограничивает ее спонтанность, творчество и свободу. И вообще «у многих людей дерево проросло в мозгу», их решения и действия страдают одеревенелостью.Антихрупкость ризомы↓Что касается ризомы, то она не имеет связующего центра в виде какого-то единого корня. Это непараллельная эволюция полностью различных образований, происходящая не за счёт дифференциации, членения, ветвления, а благодаря удивительной способности перепрыгивать (переползать) с одной линии движения (развития) на другую и черпать силы из разности потенциалов.Как трава, пробивающаяся между камнями мостовой, ризома всегда чем-то окружена и растёт из середины, через середину, в середине.Ризома в постмодернизме уподобляется растению (например, перекати-поле – род спорыньёвых грибов, 1000 видов папоротников и т.п.), которое стелется и переваливает через препятствия (борозды, канавы, ямы) именно из-за того, что его теснят, ограничивают, обступают со всех сторон так называемые «культурные» растения. И чем сильнее это давление, тем шире радиус действия данного «сорняка», тем дальше он выбрасывает свои щупальца-отростки, тем больше периферийной земли становится его жизненным пространством.Место ризомы там, где трещины, разломы, пустоты, бреши и другие провалы природного ландшафта и человеческого бытия. Она их легко преодолевает. Для неё нет непроходимых границ, какими бы – естественными или искусственными – они ни были. Ризома учит нас двигаться по «пересечённой местности» нашего бытия. Она умножает стороны, аспекты, грани исследуемой реальности, превращает круг в многоугольник или шар в многогранник.Голографический метод передачи информации↓Важно отметить ещё одно судьбоносное, репродуктивное свойство ризомы. Даже самая малая часть этого растения содержит полную информацию обо всём организме. Здесь на практике природа демонстрирует уникальный голографический метод передачи информации и наследственных признаков.Ризома - символ хаосмоса↓Если дерево – символ порядка, целого, то ризома – символ хаоса, а точнее, хаосмоса [хаоса + (кос)моса]. Ризоматическая логика очень хорошо работает в многомерном мире, она идеально подходит для проведения многофакторной оптимизации и помогает сопрягать «несопрягаемое», обеспечивает конвергенцию традиционных наук и духовных заповедей.Перед каждым из нас – простых смертных – впервые открывается реальная перспектива: шанс с пользой и моральным комфортом потратить свои жизненные силы во благо человечества. Выбору правильного – праведного – пути, несомненно, поможет ризоматическая логика.Примечание- 1 Например, корневища орхидей, бегоний тоже называются ризомой. Так в природе осуществляется двуединство корня и самого растения, тянущегося к свету.
- 1 В отличие от дерева ризома (rhizome) являет собой множество беспорядочно переплетённых отростков и побегов, растущих во всех направлениях.
- 2 Жиль Делёз (1925–1995) – французский философ-постструктуралист.
- 3 Феликс Гваттари (1930–1992) – французский психоаналитик и философ.
Обсуждения
- Основной вызов современности-преодолеть ДИ-аволизм БИ-нарности
Основной вызов современности-преодолеть ДИ-аволизм БИ-нарности в псевдодиалектической упаковке.
- диалектический костыль уже не спасает?
Борис Борисевич А совет Э.Ильенкова о том,что хромому бинарному мышлению нужен диалектический костыль уже не спасает?
- из этого плена выхода нет
Алексей Сомов Из плена сложно-простого, психо-физиологического, социо-культурного, корпускулярно-волнового, едино-многого и несть числа ВЫХОДА нет.Арман Султанбек раз есть (слово) ВЫХОД, то есть ВХОД. Вернуться, посмотреть иЕсть тонкие "ловушки". Если хочешь куда-то войти,то сначала выйди-это ловушка, как и обратное событие...Есть намек. Будьте как дети, но не западайте на ребячество. Посмотреть "возвращением" не впадая в "прошлое" или "былое" можно только с зеркалами "переднего вида". Смотреть в зеркала заднего и бокового вида мы научились."Сложно" изрек?Арман Султанбек чем выше тем сложнее это понятно,вопрос другой нету ни собственный опыта ни видения. Чужой опыт не канает.Я понимаю твой вопрос, "другой" о собственном. Но в своем и собственном НИКТО не поможет, кроме себя самого.Но можно начать регулярно рвать тельник и пудриться пепелком.Вернуться в "одну и ту же реку дважды" невозможно.Здесь Гераклит прав. А А.Зиновьев шутил.что и единожды не войти.Зиновьев кстати спокойно говорил что он дважды в одну и ту же реку входил и причём несколько раз.Я понимаю твой вопрос, "другой" о собственном. Но в своем и собственном НИКТО не поможет, кроме себя самого.Но можно начать регулярно рвать тельник и пудриться пепелком.
- Предвосхищать не пытаясь "воровать" у грядущего?
Борис Борисевич Алексей Сомов.Проектировать не западая на прожектёрство? Предвосхищать не пытаясь "воровать" у грядущего?Александр Богинич Вы скоры на "суждения". А если исходить из тезиса: "видящий,да увидит", как вы из "умеющий ,да извлечет", то нужно еще разобраться почему глаз,вооруженный зрительской способностью видеть вещи и их свойства "не видит", и при наличии глаза, способности и вещей?Борис Борисевич Александр Богинич.В вашей "зрительской метафоре" не достает "света". Он разливает ясность ,в которой и вещи становятся зримо-видимыми и глаза видящими и взор чистый и.....И так же в познании и постижении.Вещи становятся "сущими" и выходят в присутствие из потаенности всякий раз постигом лица ( зеркалом света) с помощью "внутреннего света".
- Через синтез противоположностей
Джабраил Тайсаев Преодолевать бинарность можно только через бинарность. Через синтез противоположностей. Преодолеть диалектическую дуальность можно только через диалектику.Борис Борисевич Ну был такой титан мудрости-Гегель. Дошел в основаниях "ди-аволизма" до БЫТИЕ-НИЧТО в своих спекулятивных диалектических изворотов, И?Для тонких интеллектуалов современности, все более "очевидными" становятся события в "царстве" семиотики, где обитает знаковый дух единства с его формами. Они ( интеллектуалы) своим "ноуменом", как боковым зрением, усматривают как в означивании означаюЩЕЕ вытесняет означаеМОЕ."Информационное" вытесняет и замещает собой "реальное". Именно без лица ОЗНАЧАТЕЛЯ, модерн в своей постмодерновой "агонии",пытается стоять "насмерть" у входа в следующий эон-АКМЕОН.Антропоцен стоит у истоков "первоначального накопления антропного потенциала" у человека МОДЕРНА.Происки ДИ-АВОЛИЗММА в его заигрываниях с "алтарями" духовности, разумности, интеллектуальности и "крестами" сердечного эмпиризма, чувственности и "феноменальности" совсем не безобидны в отсутствии на "престоле" ТОГО КЕМ "означатель" приводится к "власти" в перебежках означающего и означаемого во всевозможных означиваниях.Может так "Отче наш" забавляется своими "Сынами" и "Духами".А может и гордость: "у каждого гегемона своя толпа интеллигентов у трона". Цифра-она же бинарна: 1 и 0. Есть человек-нет человека. Не "умопожатных" в ноль.
- овладение (и практикование) КОНТИНУАЛЬНЫМ мышлением:
Радикальное преодоление ограниченности бинарного мышления — овладение (и практикование) КОНТИНУАЛЬНЫМ мышлением:
- диалектический костыль уже не спасает?
- линейная логика приводит к пределу осознания
Любая цепочка линейной логики ведёт к усложнению, осознать которое, на определенном этапе, человеческий разум не способен, в силу своей физио-биологической природы и Демократия, в этом контексте, не исключение.
- изучение истории философии расширяет логические возможности
Человеческий разум может многое, при условии выхода за пределы линейной логики ( арифметики).Есть такие логики, реализовав какие на практике - многое можно достичь и для понимания и для инобытия ( иных смыслов культур ( и мышления тоже). Изучайте курсы историй философий.Логические возможности расширяются.А вот застряв на уровне линейной логики мир действительно будет казаться непостижимым.
- нет примеров бытия чистого разума на практике
Тут правда есть проблема "организованного мышления, как части совместной деятельности. Не ново и есть примеры корпоративного мышления. Но это больше в сфере бизнеса. А вот в плане положительных примеров государственного правления - есть некоторые успехи в некоторых странах, но примеров бытия чистого разума на практике- нет.А Учения есть. И не одно.
- практика линейной логики игнорирует квантовую фазность природы
Вопрос лишь в том, что практика линейной логики игнорирует квантовую фазность природы информационного пространства.Это игнорирование ведёт к абсурду и безысходности, к самоуничтожению из-за когнитивной несостоятельности.И... к чему и к кому этот призыв изучать?Не знаю важности логики физиков ( квантовой ).
- философы опережают технарей на несколько столетий
По тем учебникам, какие мне приходилось читать - философы опережают технарей на полтора - два столетия. Не все. Но узел Кант, Гегель, Гете - заложили для логики столько, что пока их мировой рекорд и близко не преодолен.А технари ( наши особенно) просто о их достижениях - мало или совсем ничего не знают. И думают, что открывают нечто "новое".Это новое для думающих машин. А для думающих людей - в учебном смысле - многое не ново. Хотя в практике- у гуманитариев - успехов меньше, чем у "отсталых" механицистов. Этот парадокс разрешим. Но массы - качественных спецов - явно нет. Пока нет.
- надо осмыслить логику исключенного четвертого
Для начала, осмыслите логику исключенного четвертого, и тогда станет понятен ужас советской практики большевистских выборов.
- изучение истории философии расширяет логические возможности
- бинарность и континуальность в работе КР
- континуальность совместных действий
Всё вполне логично. Как только Вы вводите бинарные оценки "мусор-немусор", Вы входите в область бинарной логики.В Ризоме нет четких границ, более того, люди-нейронытоже действуют, опираясь на бинарную логику но по принципам континуальной (бинарная форма, континуальное содержание), и в анализе, и в классификации, и в конструировании "дерева смыслов" и даже в синтезе 4D-текста.Неготовность работать с бинарными конструкциями является исключительно Вашей персональной особенностью. Это не имеет отношения к Ризоме. Если это и тренд, то индивидуального масштаба.Континуальность результата обеспечивает также вплетение отдельного 4D-текста во всю ризому (сростание ветвей-корней в любых его местах).В ризоме нет ничего четко определенного, "мусор / не мусор" - это как кто-то из редакторов посчитал, а любой другой может и это исправить, так как в ризоме нет ничего ОКОНЧАТЕЛЬНОГО.Да, что не складывается сегодня, сложится завтра, это живой процесс, а не конечный результат.
- есть и другие гипотезы
Ваша гипотеза не единственная. Есть противоположный вариант, в котором континуальная форма обслуживает бинарное содержание конкретных задач.Например, такой задачей может стать легитимизация запросов отдельных людей к обществу. Но тогда не все запросы будут равноценны. Одни пройдут легитимизацию, другие останутся мусором.Так мы же не претендуем на ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ, а ИНТЕГРАЛЬНОСТЬ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ обеспечивает использование ВСЕХ гипотез.
- континуальность совместных действий
- Парадокс Кучи и его решение нечёткой логикой
«Парадокс Кучи» в формальной логикеРассмотрим «Парадокс Кучи» в формальной логике. Для определённости мы рассмотрим пример с зёрнами пшеницы. (См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_кучи ).«Формулировка парадокса основана на базисной предпосылке, согласно которой одно зёрнышко не образует кучи, и индуктивной предпосылке, по которой добавление одного зёрнышка к совокупности, кучей не являющейся, несущественно для образования кучи. При принятии этих предпосылок никакая совокупность из сколь угодно большого количества зёрен не будет образовывать кучи, что противоречит представлению о существовании кучи из зёрен.Известно множество вариаций в формулировке парадоксаИзвестно множество вариаций в формулировке парадокса. Кроме позитивной («если к одному зерну добавлять по зёрнышку, то в какой момент образуется куча?»)[3], встречается и негативная формулировка: «если удалять из кучи в 1 млн зёрен по одному зёрнышку, с какого момента она перестаёт быть кучей?»[4]»Этот парадокс решается, если от формальной логики, где истинность любого высказывания может принимать только два значения: 1 = истинно, либо 0 = ложно, к нечёткой логике. В ней истинность любого высказывания может принимать любое значение действительного числа X между 0 и 1, то есть X принадлежит отрезку [0,1] . (См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика)Разрешение парадокса в одной из интерпретаций нечеткой логикиВ одной из интерпретаций нечёткой логики значение истинности в ней можно рассматривать как вероятность полной истинности в формальной логике.Для множества из N зёрен значение истинности свойства «быть кучей» можно задать, например, функцией К(N)=1 – 1/∛N (или другой монотонно возрастающей функцией от N )Тогда К(1) = 0 , а К(1000000) = 0,99. И если мы из кучи в 1000000 заберём 1 зёрнышко, и получим N=999999, то К(N) уменьшится очень незначительно. Но при каждом следующем вычитании 1 зёрнышка К(N) будет уменьшаться. К(1000) = 0,9, К(125) = 0,8, К(8) = 0,5 .И это примерно соответствует нашей интуиции.Таким образом, переход от формальной логики к нечёткой логике позволяет разрешить парадокс кучи в примерном соответствии с нашей интуицией.Нечеткая логика в описании динамических системЭтот пример иллюстрирует более общий тезис. Формальная логика хороша для описания характеристик статических моделей (типа арифметики), а для описания свойств динамических моделей «становящихся систем», в которых «количество переходит в качество», предпочтительнее использовать нечёткую логику. Наш «здравый смысл» часто использует нечёткую логику и связанные с ним лингвистические переменные.Использование нечеткой логики в экспертных системах, нейросетях и системах ИИ)«Нечёткая логика — набор нестрогих правил, в которых для достижения поставленной цели могут использоваться радикальные идеи, интуитивные догадки, а также опыт специалистов, накопленный в соответствующей области. Нечёткой логике свойственно отсутствие строгих стандартов. Чаще всего она применяется в экспертных системах, нейронных сетях и системах искусственного интеллекта.Вместо традиционных значений Истина и Ложь в нечёткой логике используется более широкий диапазон значений, среди которых Истина, Ложь, Возможно, Иногда, Не помню (Как бы Да, Почему бы и Нет, Ещё не решил, Не скажу…). Нечёткая логика просто незаменима в тех случаях, когда на поставленный вопрос нет чёткого ответа (да или нет; «0» или «1») или наперёд неизвестны все возможные ситуации. Например, в нечёткой логике высказывание вида «X есть большое число» интерпретируется как имеющее неточное значение, характеризуемое некоторым нечётким множеством.«Искусственный интеллект и нейронные сети — это попытка смоделировать на компьютере поведение человека. А так как люди редко видят окружающий мир лишь в чёрно-белом цвете, возникает необходимость в использовании нечёткой логики».[5]» (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логикаОбсуждение
- это проблема там, где различают одно и многое
То же мне, парадокс. В русском языке куча - это второе множественное число, определяемое по изменённому окончанию. И начинается с пяти. Одна, две, три или четыре кучи, но пять - куч! Это проблема лишь там, где различают одно и многое, сингуляр и плюраль.
- На грузинском Кучи означает желудок
На грузинском Кучи означает желудок...
- решается нечетким определением понятия "куча"
Так как вес кордебалет в формальной логике от нечеткости, то предлоhаю ввести аксиому перехода: больше двух, или больше трёх - куча. Есть у меня и определение понятия „большая куча" или „кучище". Предлоhаю мои услуги - разрешаю парадоксы любого типа.Пиар - моими услугами пользовались Зенон Элейский и Бертран Рассел!
- решение из живой практики
А можно проще рассуждать, рассматривая "Кучи парадокс". Давайте исходить тут из живой человеческой практики. Вот, например, лежат перед вами на столе 4 яблока. Это — "куча"? Нет, это — "кучка", не более того. А если яблок этих 3 всего, то скажем снова "кучка"? Сомневаюсь. В лучшем случае, вздохнём, взглянув, и скажем — "недокучка" какая-то лежит. Когда их будет 5, 6, 7,... до ДЮЖИНЫ — то это будет "кучка". А сверх того — кто "кучкой" назовёт 12 яблок этих, а кто уже (из уваженья к "кучке") — "кучей".... ...Три рубля кучка, в кучке три штучкиИтог. В сухом остатке мы имеем:
- 3 — "недокучка",
- 4-12 — "кучка",
- не менее 12-ти — тогда и "куча".
Ну что, ребята, договорились по-хорошему, иль как? - от логики нечеткой к логике континуальной
Нечеткая логика - хороший клин, чтобы выбить из головы человека навязанное ему впечатление, что все на свете можно понять с помощью логики бинарной.Но это только первый шаг к КОНТИНУАЛЬНОЙ логике.Я обозначу некоторые моменты в континуальной логике, отталкиваясь от данного текста:
- ==для описания свойств динамических моделей «становящихся систем»==
- К. логика используется при становлении динамической системы Коллективного Разума, где свойства не имеют формального описания, а являются таким же динамически становящимся объектом, как и сама система (фрактальность).
- =в которых «количество переходит в качество»=
- В К.-логике нет количеств, нет сравнений, в ней качества развиваются(становятся) естественным путем вне сравнений с другими качествами.
- =применяется в экспертных системах, нейронных сетях и системах искусственного интеллекта=
- К. логика применяется в системе Коллективного Разума, который развивается на нейросети "людей-нейронов" и пользователей, который является экспертной системой.
- =Вместо традиционных значений Истина и Ложь в нечёткой логике используется более широкий диапазон значений=
- В К. логике значением является аналоговая функция (для простоты можно представить как "динамический спектр" (см. рис), естественно значения не сравниваются друг с другом (аналогично как гиперкомплексные числа).
Подробнее о Континуальной логике см. соответствующую тему в системе Коллективного Разума http://bit.ly/2XeIZUXНечёткая логика НЕ "клин", а развитие формальной логики на новые области применения. - как определяются логические операции?
И как же тогда в К. логике определяются обычные логические операции: отрицания, конъюнкции и дизъюнкции ???Отрицание, конъюнкция и дизъюнкция — это обычные операции в бинарной и прочих дискретных логиках.
- В К. логике нет False и нет числовых эквивалентов.
- Ничего не доказывается и не вычисляется,
- ответы всегда многозначны (на один вопрос существует бесконечное множество ответов и все они "правильные").
Это очень свойственно человеку (К. логика у него врожденная), нельзя любить на 75%, нельзя сравнивать одну любовь с другой. - куча - это качественная оценка, а не количественная
Это решение искажает сам смысл парадокса. Куча - это определённая качественная оценка неопределённого объективно количества, которая в то же время является неопределённой качественной оценкой определённого субъективно количества.Исходя из этого определения, понятно, что само понятие кучи основано на этом логическом противоречии и нельзя убрать это противоречие, не исказив смысл того, что такое куча. В данном случае кучу из качественной оценки превратили в количественную, поменяв смысл этого понятия, по сути, на полностью противоположный.Смысл качественных оценок в языке как раз в том и состоит, что они качественные. Они от контекста зависят больше, чем от того, сколько там зёрен. В одном контексте и два зерна - это куча, а в другом и 20 - не куча. При этом, несмотря на это, само понятие кучи от контекста не зависит, тут нет противоречия, так как куча - не количественная оценка.В континуальной логике понятие куча может по-своему определять каждый человек, причем в разных случаях по разному (три белый гриба - куча, три сыроежки - даже не кучка). Все ответы будут истинны, так как истинность каждый определяет по-своему.Это для каждого слова в языке так.
- Гипотезы не всегда бывает истинными
Проблема в другом. Гипотезы не всегда бывает истинными.
- это проблема там, где различают одно и многое
- От математики к биоматематике. Сергей Карелов
- Биоматематика - первобытный язык мозга
Объявлен 3й парадигмальный переход в науке: от математики к биоматематике – первобытному языку мозга.«Говоря о математике, мы, вероятно, имеем в виду вторичный язык, возникший над первобытным, который использует только нервная система.»Джон фон Нейман
- Биоматематика способна объять творческую свободу жизни
- 1й научной парадигмой была ньютоновская парадигма – механистическая «Вселенная, как часовой механизм».
- 2я пришла с квантовой механикой и ее вероятностной природой.
- Теперь биология заставляет нас выйти за рамки обеих в новую эпистемологическую парадигму – биоматематику, которая способна объять творческую свободу жизни.
- Биология предстает как царство исключений и контекстуальных зависимостей
Биологические системы принципиально сопротивляются математической формализации. В отличие от физики, биология предстает как царство исключений и контекстуальных зависимостей. Знак равенства – символ математической определенности – оказывается неуместным в территории живого.
- Биоматематика - новое научное мировоззрение, признающее творческую непредсказуемость жизни
В 1931 году Курт Гёдель доказал, что математика не может объяснить математику. Новая работа трёх знаменитостей Си Гарте, Пэрри Маршал и Стюарт Кауффман «Разумная неэффективность математики в биологических науках» [1] распространяет этот принцип на биологию и объявляет [2], что "мы стоим на пороге "третьего великого перехода в истории науки – после ньютоновской и квантовой революций… Это новое научное мировоззрение, признающее творческую непредсказуемость жизни".
Почему так? И можно ли это преодолеть?- Суть 3-й революции
Суть 3-й революции в следующем:
- Признание принципиальной неформализуемости биологии в математических терминах
.Это фундаментальный эпистемологический сдвиг: живые системы не просто следуют математике, они создают математику. Организмы непрерывно выбирают из множества возможностей, проявляя агентность и когнитивные способности, которыми неживая материя не обладает.
- Новый вид описания биологической реальности - биоматематика
Основываясь на теоретических работах Гёделя и Тьюринга, авторы, взамен существующей математики, изобретают новый вид недедуктивного формализма, подходящего для описания биологической реальности – биоматематику (не путать с существующей математической биологией)
- Заключение о 3-м великом переходе в истории науки и экзистенциальном вызове человечеству
Делается философское заключение о третьем великом переходе в истории науки и экзистенциальном вызове человечеству.
- Признание принципиальной неформализуемости биологии в математических терминах
- Развилка на дороге в истории науки
"Неэффективность математики в биологии представляет собой развилку на дороге в истории науки. Мы находимся на пороге «третьего перехода», где ньютоновская парадигма часового механизма, которая была опрокинута квантовой механикой, снова трансформируется непокорным творчеством жизни."
- Биоматематика - первичный который использует только нервная система
Биоматематика представляет собой тот самый первичный, базовый, «первобытный язык», который, по представлениям великого Джона фон Неймана, использует только нервная система, а математика – это всего лишь надстройка над ним. Фон Нейман считал, что «если мы расшифруем его, то начнем понимать, как устроен мозг, получим доступ к уникальной способности разума присваивать великое всеобъемлющее значение миру, которая доступна только человеку».
- Биоматематика оперирует возможностями, потенциалами, неопределенностями
В качестве формального языка биоматематика оперирует не равенствами, а возможностями, не предсказаниями, а потенциалами. Здесь неопределенность становится не проблемой, а основным операционным принципом. И согласно этому новому формализму, эволюция – не просто случайный процесс отбора, а непрерывный творческий акт, в котором каждый организм активно участвует.Телеграфно говоря, в биоматематике используются:
- неравенства вместо равенств;
- биологический вероятностный подход;
- функциональные зависимости без точных определений;
- новое понимание биологической причинности: в направлении "познание → коды → химические вещества", а не наоборот, как в стандартной редукционистской модели.
- Биоматематика кардинально меняет понимания сознания
Также биоматематика кардинально меняет понимания сознания – не как эпифеномен сложности, а фундаментальное измерение реальности, где выбор, агентность и творчество преобладают над детерминистической причинностью.
- Все это начинает 3й переход:
Все это начинает 3й переход:
- в науках о жизни, расширяя «конституцию биоматематики» конкретными законами;
- в науках о разуме и сознании, увязывая новые законы с «теорией относительности интеллекта» .
Обсуждение- континуальное мышление отражает философскую концепцию континуума
Именно континуальное мышление можно рассматривать как способ мышления, который отражает философскую концепцию континуума, применяя её к различным аспектам познания и понимания мира.
- КМ открывает путь к решению сложных проблем
Континуальное мышление открывает путь нашему сознанию к решению сложных проблем, буквально моментально принимать стратегических решения, разрабатывать инновации и понимать сложных систем.
- LLM лишь коряво имитирует KM
Может кому-то покажется странным, но Transformer architecture, система на которой основана современная\нынешняя метода работы LLM (Большие Языковые Модели), или как её обзывают ИИ(Искусственный Интеллект) вкорне не приспособлена работать в режиме континуального мышления, а лишь коряво имитировать его.
- КМ в отличие от дискретного не имеет пробелов
И если сравнивать с математикой, т.е. с дискретным образом мышления, то континуум — это множество действительных чисел, которое не имеет "пробелов".
- живая система КРс создала для себя КЛ
- нет операций сравнения (нет ни равенств, ни неравенств, ни больше, ни меньше;
- нет количеств
- нет точных определений;
- нет однозначных ответов на один вопрос
це не математикаТак, коли заходять нові поняття, дуже важко з термінами: якщо використовуєш старі - розуміють неправильно, якщо використовуєш нові - не розуміють зовсім.Але є добра новина: щоб рухатись вперед нам не треба термінів, понять, означень (як воно завжди і буває в житті) -- О работе с терминами (ДС)
виявилось, для рішення наших СПІЛЬНИХ проблем нам не дуже потрібно і розуміти один одного (як би це не здавалося дивним): - химия и физиология математики разума
Математика в части операций с потенциалами действий на мембранах нейронов выполняется чётко, это зря тут пытаются опровергнуть. Неопределённость возникает при модуляции потенциалов действия в синапсах на концах дендритов, которая зависит от эндогенных и экзогенных хим. веществ, которые выделяют различные части организма и поступающих извне, например, с едой, курением, алкоголем, ядами, токсичными веществами, ...Так никто же не пытается опровергнуть математику, есть разные задачи, которые решаются разными способами. Конкретно большинство общественно значимых проблем, в том числе и глобальных не решаются сегодня с помощью математики, но решаются с использованием биоматематики - смотрите наработки Коллективного Разума социума:
- многофакторная оптимизация - важнейшая закономерность для живых организмов
Живые организмы действуют по природным закономерностям И важнейшая из них - это многофакторная оптимизация.Важно добавить: оптимизация в каждый момент времениВ КР социума многофакторная оптимизация идет постоянно
- "Пространство согласия" и Ризома Жиля Делеза
Ваш Проект:...Пространство согласия — международный проект, выстраивающий единоесетевое коммуникативное, когнитивное и проектно-деятельностное пространство в форме Коллективного разума...,и концепция:...Ризома ( «корневище» ) — один из важнейших и самых известных концептов в философии Жиля Делеза .Разработан главным образом в произведениях, написанных в соавторстве с психологом и психиатром Феликсом Гваттари и призван служить основой и формой реализации «номадологического проекта» этих авторов.Ризома должна противостоять неизменным линейным структурам (как бытию, так и мышлению),которые, по их мнению, типичны для классической европейской культуры...видимо, несут позитивные, благие начала.
- надо не скатиться в утопию
Главное, чтобы он учёл ошибки и "проблемы утопий", которые возникали в различных общественных формациях.Неплохо эти проблемы освещает проф. С.В. Савельев - "Проблемы утопий":
- надо учитывать биологическое `осознание` масс
Надо учитывать, что основная масса людей в социуме всё-таки имеет формы поведения гормонально-инстинктивные, которые относятся к первичному `псевдосознанию` (биологическому `осознанию`) и это проблема для социального согласия.
- Первичное `псевдосознание` (биологическое `осознание`)
Первичное `псевдосознание` (биологическое `осознание`):базируется на лимбической системе. Есть у рептилий, животных, приматов.Это самое древнее `псевдосознание` (биологическое `осознание`), которое формировалось в процессе эволюции видов на протяжении сотен миллионов лет.Определяет форму гормонально-инстинктивного, неосознаваемого поведения - пищевого, (репродуктивного - у различных видов организмов, начинается с разного возраста), доминантного.Обладатели только `псевдосознания` (биологического `осознания`), педагогической обработке поддаются с большим трудом, или вообще не поддаются, т.к. неокортекс не достаточно сформирован для нормального функционирования.(Является основным для человеческих детей в возрасте до 7-9 лет (, так как формирование неокортекса, к этому возрасту, выходит только на начальный уровень функционирования), и, в дальнейшем, влияние первичного `псевдосознания` (биологического `осознания`) на поведение человека зависит от окружающих его процессов в семье и социуме, а также от степени развития его вторичного и третичного сознания).В социуме же, проявляются их производные разновидности: обман, манипуляции, мошенничество, тщеславие, гордыня, нарциссизм, власть, насилие, рабовладение, конкуренция в любых проявлениях, деньги (сребролюбие), жадность, различные страсти, демонстрация высокого уровеня потребления товаров и услуг с целью вызывать зависть у окружения, ...(Если кто-то `молится` на материальный успех, деньги, ..., то, это значит, что он `молится` на реализацию каких-то своих биологических (или `животных`) потребностей, что во многих религиозных учениях принято приравнивать к негативным процессам саморазрушения социализированной личности).
- Вторичное сознание
Вторичное сознание:базируется на определённых полях неокортекса, в частности, на развитых ассоциативных областях мозга.В процессе жизнедеятельности человека, в ассоциативных областях мозга формируются социальные инстинкты.Вторичное сознание присутствует у людей и характеризуется рассудочным логическим (дедуктивным) мышлением (тип - адаптирующийся к условиям существования `функционер`, социализированный конформист, обладающий развитыми социальными инстинктами).Может применяться для добычи различных материальных и нематериальных благ, в первую очередь тех, которых требует его лимбическая система (в социуме, эти требования трансформируется в производные: деньги, власть, сотрудничество для последующей выгоды, ... ), а внутренним подкреплением воображаемого или реального успеха, служит вознаграждение, в виде выделения определённых эндогенных веществ.Имиджевое потребление, имитирующее собственное величие, не является собственно творческой деятельностью.Часто, для достижения этих целей, честными и не очень путями, применяются различные манипуляции общественным мнением.Главное занятие `Функционеров` - усиление своей доминанты в социуме, а для этого им необходим постоянный рост собственной карьеры и карьеры своих потомков, накопление материальных средств, демонстрация высокого уровеня потребления, демонстрация своей важности и уровня достигнутой власти, наработка `нужных` служебных и социальных связей, конкурентная борьба за блага, обязательная организация отдыха от `непосильных` трудов, и, несмотря на такой уровень занятости, времени и способностей хватает ещё и на имитацию бурной служебной деятельности. В случае отсутствия контроля, по какой-либо причине, со стороны социума за их имитационной деятельностью, `функционеры` стремятся к созданию `наследственно-бюрократического феодализма`, что искусственно продлевает их доминантность в социуме на неопределённое время.`Функционеры` - `мастера` в области социальных инстинктов, а также в имитации процессов творчества, используя для этого комбинаторику посторонних идей и технологий (такая же комбинаторика используется в играх, например, в: шахматах, шашках, нардах, го и подобных).Будучи неспособными создавать что-то действительно новое, они пытаются занимаются лицензионным или нелицензионным копированием чужих разработок - реверс-инжинирингом , выдавая результаты за `сверхновые` инновации.
- Третичное сознание
Третичное сознание:базируется на определённых, увеличенных в размере полях неокортекса, обладающих повышенной степенью изменчивости (активное и частое изменение большого количества нейронных связей в определённых увеличенных полях неокортекса, является признаком склонности к гениальности в какой-либо сфере человеческой деятельности - способностью к произвольному мышлению).Длительный эволюционный выбор, определил приоритетную задачу работы мозга - это поддерживать функционирование только лимбической системы мозга, так как её функционирование энергетически более выгодно (занимает только 10% объёма мозга), чем энергозатратная работа неокортекса, и обеспечивает так необходимую и стабильную биологическую/животную/инстинктивную/бессознательную жизнедеятельность организма.Поэтому, обладатели третичного сознания, получают различные эндогенные вещества от лимбической системы, чтобы клетки неокортекса не были активными (`были счастливы, ушли в отпуск, стали ленивыми и отдыхали от работы`) и не производили очень энергозатратную рассудочную (дедуктивную) и творческую (индуктивную, `наводящую`) деятельность при решении не биологических задач.Но, каким-то странным образом (своеобразный `обман` лимбической системы, через `отвлечение` на работу моторных, обонятельных, осязательных или слуховых центров неокортекса), у обладателей третичного сознания, определённые поля неокортекса не `отключаются` (не деактивируются) от избытка `счастья`, и, находясь в состоянии `эйфории`, продолжают рассудочную (дедуктиную) и творческую (индуктивную, `наводящую`) деятельность, при решении не биологических задач.В этом состоянии `радости, счастья, творческой эйфории и потери чувства времени` в ассоциативных областях неокортекса возникают как промежуточные результаты, так и генерируются окончательные идеи, которых ещё не было в человеческом обществе или в природе.Гиперспециализация отдельных отделов головного мозга, отвечающих за различные виды `гениальности`, представляют собой структуры, где гормонально-инстинктивное, неосознаваемое поведение, порождаемое лимбической системой - гасится, но состояние `радости, счастья, творческой эйфории и потери чувства времени` сохраняется.Достигается такой эффект процессами сознательного торможения животных (`бабуиновых`) инстинктов, в ассоциативных областях мозга.Ассоциативные области неокортекса могут `отвлекаться` и растормаживаться, для поддержания мотивации заниматься произвольным мышлением, если моторные области мозга интенсивно работают в фоновом режиме, и, также, их работа `отвлекает` лимбическую систему от выполнения 3-х основных биологических потребностей (желаний).В связи с такой, количественно большой и частой изменчивостью архитектуры нейронных связей, колебаний настроения из-за `пресыщения эндорфинов и других эндогенных веществ`, и, наоборот, `недостатка эндорфинов и других эндогенных веществ`, у `гениев` возможна структурная предрасположенность конструкции мозга к неустойчивой психике, эксцентричным выходкам.Третичное сознание характеризуется произвольным (индуктивным, `наводящим`) типом мышления, и эти люди способны создавать идеи, которых ещё не было в человеческом обществе или в природе.А вот признание и реализация новых идей в социуме, часто испытывает трудности....
- выход на алгоритмы понимания мозга
"И это всё о нём".Главное отличие работы мозга в том, что он понимает сказанное и увиденное, а поняв, ограничивает размер базы для обучения и для выборки в миллионы раз. Понимание (чувство смыслов) - это новое качество, которое появилось миллионы лет назад вследствие большого количества нейронных сетей, а потом прошло эволюционную обкатку на миллионах видах за миллионы лет. Оно ни логически, ни физически не следует из механизмов работы с языковыми моделями. Чтобы выйти на алгоритмы понимания необходимо учитывать эволюционный след. Что мы, собственно, и сделали. Всё есть, всё работает, Проверяемо и воспроизводимо, т.е. доказуемо. И даже запатентовано.
- По-видимому, имеется в виду отличие от ИИ?
- главный вопрос в том, что такое "понимание"?
Понимание - это чувство смыслов,смыслы - это высокая концентрация значимых событий.Смыслы - это высокая концентрация значимых событий. Как мы выделяем смыслы? А это не мы делаем, это работа интуиции по своим алгоритмам. Это её прерогатива. Как нашей, природной, так и Искусственной.Природа создала интуицию всего один раз за миллиарды лет и потом только тиражировала её и совершенствовала. Никакой другой алгоритм на понимание работать не будет. Там не получается создание нового качества. Всё довольно просто, но совсем не примитивно. Как и всё в самой природе.А что такое "чувство смыслов"? И означает ли эта попытка дать определение "пониманию", что чувство одно (или чувств тоже много?), а смыслов много?А теперь к пониманию, как чувству смыслов.На картинке представлено одно обсуждение на форуме ФБ у Сергея Карелова по теме сознания и AGI в виде облаков распределений. Каждая точка является простейшей нейронной сетью из 4000 нейронок, задействованных для этого примера. А всего их у нас есть только на слова свыше 10 тыс. Есть совпадение - будет понимание. Если нет, то и не будет. Можно далее и не пытаться понять друг друга. Ничего не получится. Проверено на многолетнем опыте.И есть ли количественное определение "высокой концентрации" и "значимости событий"? Просто по моим суб'ективным наблюдения, и "высокая концентрация" и "значимость событий" - это чень суб'ективные понятия?Верно, сами чувства - это субъективная, но всегда обязательно адекватная оценочная способность происходящего. В противном случае "нас бы здесь не было". Субъективная не потому, что неверная, а потому, что у каждого субъекта своя собственная интуитивная база классификаторов, собираемая им с момента рождения в течение всей жизни. Но чувства не могут быть неверными по построению картины мира. Потому что тогда невозможно выживание в конкурентной среде.
- Близость моделей в нашем мозге создаётся чувствами
Близость моделей в нашем мозге создаётся чувствами. У животных всё точно так же. А чувства - это интерфейс природной интуиции, которая воссоздаётся по принципу многофакторной оптимизации и работает со связями свойств объектов.Чувства не следуют из законов математики и информатики. Это продукт эволюции и просто сверхжёсткого отбора. А они во многом шли против этих законов. Выбиться за пределы технической парадигмы уважаемые исследователи пока не могут. Да и не смогут без подсказки извне. Без нашей подсказки. "Чувствующий Город" не получилось сделать в Торонто у Гугла? Могли бы обратиться к нам. Тогда - без проблем. Не поздно и сейчас это сделать. И тогда Город будет вас понимать, чувствовать и любить. И люди это сразу почувствуют. Чувства людей обмануть очень сложно. Все понимают, чем отличается любящий от того, кто просто "умный". "Умный Город", к примеру.Чувства работают с происходящим (видимым), а интуиция работает с произошедшим (увиденным) или с бессознательным опытом.
- Построение картины мира необходимо для понимания и выживания
Построение картины мира свойственно всем животным и людям. Это необходимо для понимания, как выживания. А интеллект, как способность оперировать абстрактными понятиями (числа, слова, знаки) может быть у человека на этой основе. Впрочем, его может и не быть. Если не обучить умению говорить и думать словами и не социализировать. Правда, тогда и человека в нём тоже не будет.
- Мозг - это система по управлению смыслами событий
Для того, чтобы понять смысл книги, не обязательно знать материал, на котором она находится. Будь то бумага, магнитная лента или флешка. Ни суть, ни содержание не меняется от этого нисколько.Это к работам уважаемых учёных - нейробиологов, занимающихся изучением мозга.Достаточно понять принципы работы мозга и сознания в нём, чтобы всё получилось.Мозг - это система по управлению смыслами событий, а не изучение свойств материала носителя сознания. А сознание - это смысл происходящего.
- Алгоритм работы нашего мозга
Алгоритм работы нашего мозга и сознания в нём довольно несложный. Это природная закономерность, найденная или полученная в ходе эволюционного процесса и естественного отбора. Всё произошло от зрения, да сами алгоритмы зрения и мозга одни и те же.Если очень кратко, то так.Интуиция образовалась из зрения, когда оно стало не только "смотреть внутрь себя", но и работать с увиденным. Понятно, что вся работа выполняется только в реальном мире, а обучение основано на его неявном знании. А это связи объектов по их свойствам, и связи связей и т.д. Конечно, эти данные не формализованы, и многие из них даже не поддаются формализации. Но это не мешает природной интуиции, поскольку "это ее работа".Весь смысл в том, чтобы выделить главное из океана тривиальности, затем извлечь смыслы, концентрируя значимые события, отфильтровывая т.н. "токсичные предубеждения", которых может быть до 99,9% и более и разного рода неопределённости, и затем уже в соответствии с диалектическим законом эмерджентности, само - собой получается новое качество: зрение, интуиция, понимание, сознание и т.д. Ну, а мышление - это инструмент для реализации сознания с помощью слов.
- математика природы - многофакторная оптимизация
Очень толковый GPT Bard Google в 2023 году разобрался в сути нашего патента и сказал, что речь в нём идёт о многофакторной оптимизации, а это и есть та математика природы, которой пока нет у людей. А умничка Grok в феврале 2025 года согласился с нами, что AGI - это сведение задачи по связыванию ассоциаций (интуиция и чувства) и абстракций (интеллект и логика) в рамках одного проекта. Наше сознание в нашем мозгу именно так устроено и работает.AI ассистенты разобрались во всём за несколько секунд, а люди делают вид, что ничего не видят. Так и живём. Скоро нейросети начнут думающих людей искать."Маск меня не видит, это минус, но не догонит - это плюс."(С)Если историю современных моделей ИИ считать от Т-4, то не очень обнадёживающими звучат их одобрения наших гипотез! ) Это больше похоже на самоодобрение. У Вас прозвучало слово эволюция, и оно, мне кажется, многообещающим. Как работает мозг, и как он дошел до современной жизни, мы , к сожалению, пока не знаем.
- в основе деятельности мозга - автоколебательные процессы в комплексах сетей
Наш мозг живёт очень мало, но очень интенсивно. В основе его деятельности лежат автоколебательные процессы в комплексах , состоящих из нейронных и капиллярных сетей. Для визуального ознакомления с логикой этих процессов идеально подходят реакция Белоусова-Жаботинского в чашке Петри. Иначе понять, что проиходит в нашем мозге, довольно сложно.В реакции Белоусова-Жаботинского в среде больших объемов окислителя и восстановителя в присутствии катализатора и обычно красителя в результате реакции окисления возникают ингибиторы реакции. которые почти полностью останавливают реакцию, но сами тоже в ней расходуются, давая дорогу новому циклу. В результате , в чашке Петри возникают циклические структуры, похохожие на расходящиеся на воде круги от падения камня. Круги имеют свою частоту. Таких " камней", возникающих спонтанно, в чашке Петри множество, но если под одним из них "подогреть" среду и увеличить частоту исходящих от него колебаний, то именно этот "камень" ( его называют ведущим центром) постепенно захватит весь реакционный объем.Именно так, мне кажется, в юном мозге возникает сознание , то есть единоначалие, когда из одной точки в мозге осуществляется контроль над всеми остальными его частями."Плясать" перспективней от этой приземленной гипотезы .Далее, нужно учитывать вовлеченность юного мозга в потоки информации извне, где он оказывается встроенным в более высокие уровни иерархии сложности. Кем он там будет: ведомым или лидером, по большому счёту, большой вопрос. А "чувства", "интуиция", и пр - это програмные надстройки, помогающие нам находить свое место в обществе.
- сознание не в нейронах, а в информационной среде мозга
Не так важны процессы, происходящие в мозгу и нейронах, поскольку сознание не в них (потому его не могут найти учёные - нейробиологи), а в информационной среде мозга. А нейроны обладают свойствами, позволяющими эту среду создавать. Но изучение свойств нейронов - это всё равно, что изучение свойств красок картины, не понимая её смысла.Сознание - это чувство и это смысл происходящего. Что в свою очередь позволяет довольно простыми средствами получить сознание на компьютере при помощи программных средств. Это было не только понято, но и сделано.Aleksandr Kolotygin Вы идеализируете сознание.) Ученые нейробиологи соседней с моей кафедрой потому и не могут найти в нейронах сознание, потому что оно не в них, как Вы правильно заметили, а в некой информационной среде. А что это за среда? Это среда откуда-то растёт.Скорее всего растёт она из одного строго уникального места в каждом мозге, которое является родиной победившего в результате эволюции между себе подобными в этом мозге автоколебательного процесса.Звучит сурово, но только так можно избавиться от ничего не значащих слов типа " Сознание - это чувство и это смысл происходящего". ...Синергия, однако здесь, видимо, описана.Сознание - это система контроля за интеллектом и интуицией. Система, как единство и борьба противоположностей. Они постоянно конфликтуют, такова их природа. Сознание (самосознание - оборотная сторона медали) не может себя не контролировать, в этом его смысл. Суть сознания - наиболее эффективное выживание в конкурентной среде. Это природная закономерность, а не идеализация её кем-либо.
- мы доверяем своим чувствам без их определения
Вы своим чувствам доверяете? Зрению, слуху, сознанию, чувству равновесия и мн. другим? Или не доверяете из -за "отсутствия внятного определения"?Вы человека в сознании, что тоже чувство, сумеете отличить от находящегося в бессознательном состоянии, без строгих определений и серьёзных учёных?А все люди это делают легко и просто всего лишь своими чувствами и здравым смыслом. Что есть логика +опыт.Своим чувствам я доверяю не всегда (но не из-за отсутствия определений), поскольку помимо чувств ("сердце") имеет место еще и "разум"
 . Вам когда-нибудь доводилось видеть мираж или слышать слуховую галлюционацию?Вы забыли упомянуть ещё про когнитивные расстройства, начинающиеся обычно после сорока лет. В самом начале они почти незаметны, по счастью. Но со временем именно они делают невозможной нашу жизнь быть полноценной.Что поделать, когда таков порядок вещей?
. Вам когда-нибудь доводилось видеть мираж или слышать слуховую галлюционацию?Вы забыли упомянуть ещё про когнитивные расстройства, начинающиеся обычно после сорока лет. В самом начале они почти незаметны, по счастью. Но со временем именно они делают невозможной нашу жизнь быть полноценной.Что поделать, когда таков порядок вещей? - -
- много что-то парадигмальных переходов
* Объявлен 3й парадигмальный переход *Как, еще один парадигмальный? У человечества обычно случается один-два на столетие, да и то только за последние, а раньше редко случалось нечто новое на тысячелетие. А у Сергея Карелова уже под десяток парадигмальных переходов, открытий тысячелетия, революционных прорывов и коперниканских переворотов только за последние лет десять его блогерства.P.S. Извините, что повторяюсь. Но не ожидал еще одного переворота через месяц после предыдущего: "Мы на пороге парадигмального переворота, своей революционностью превосходящего все предыдущие" 10 февраль 2025Само сравнение
- "парадигмального переворота в понимании сознания и разума" (о котором был мой пост 10.02)
иВ этом случае речь о парадигмальном перевороте в конкретном научном направлении, коих сейчас более 300. Если же углубиться до уровня узкоспециализированных областей исследования, число может превысить несколько тысяч. А с учетом меж и крос дисциплинарных областей - биоинформатика, нейроэкономика, квантовая биология и т.д. и т.п.- на 2 порядка больше.Потому то ежегодно и случаются десятки, если не сотни, парадигмальных переворотов. И не столько в традиционных, сколько в новых гибридных областях. Просто их теперь очень много. А вхождение в зону сингулярности уже увеличило скорость изменений многократно.
- "3й смены научной парадигмы" на эпистемологическую рамку биоматематики,
Во втором же случае речь о "3-ем великом переходе науки", коих за всю историю 3
это сравнение кислого и горячего - потому сравнивать два этих революционных переворота не корректно.Речь о "3-ем великом переходе науки" идет не "у Сергея Карелова" , а у авторов оригинальной работыЕсли потрудиться просмотреть указанные источники, легко увидеть, что речь о "3-ем великом переходе науки" идет не " у Сергея Карелова" , а у авторов оригинальной работы. Но я далек от того, чтоб приписывать себе лавры подобных определений, данных научными звездами первой величины. И не хотел бы, чтобы мне это приписывали читатели моих постов.* Потому то ежегодно и случаются десятки, если не сотни, парадигмальных переворотов. * Сергей, по самому смыслу слова "парадигма" (совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в тот или иной период времени) парадигм не может быть много. И уж подавно никто ни в какой оригинальной работе не может объявить начало новой парадигмы. Парадигма формируется как глобальный тренд, о котором мы узнаем не из отдельной статьи или лонгрида блогера, а из средств массовой информации, когда за достижения в области, задающей нормы новой парадигмы, присуждают серию Нобелевских премий (как было с квантовой механикой). Пока нет всеобщего признания, так и нет никакой новой парадигмы.Alexander Boldachev Увы, Александр, но и в этом вашем коменте практически каждое утверждение является ошибочным. Смотрите сами.1) Ваше определение слова "парадигма" (совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в тот или иной период времени) взято со страницы 365 обзора "Концепция научных революций Т. Куна" в сборнике "История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XXв.).- М.:'Греко-латинский кабинет' Ю.А. Шичалина, 1999При этом вы отрезали (не думаю, что случайно)) начало мысли авторов: "Важнейшим понятием концепции Куна является понятие парадигмы. Содержание этого понятия так и осталось не вполне ясным, однако в первом приближении можно сказать, что парадигма есть совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период времени".Из чего следует, что приведенное определение - лишь одно из многих определений "не вполне ясного термина".И действительно, как пишет Margaret Masterman в ее широкоизвестной работе "The Nature of a Paradigm", в знаменитой книге Куна, введшего термин "сдвиг парадигмы" в научный дискурс, дается аж 21 трактовка этого понятия: от "парадигма представляет собой набор научных привычек" до "парадигма — это то, что может функционировать, когда теории нет"Так что если и пытаться свести все множество определений и трактовок paradigm shift к одному определению, то получится примерно, как у merriam-webster - это важное изменение, которое происходит, когда привычный способ мышления или выполнения чего-либо заменяется новым и другим способомили в dictionary.cambridge - это ситуация , в которой обычный и принятый способ делать или думать о чем-либо полностью меняется - https://dictionary.cambridge.org/.../english/paradigm-shift2) Абсолютно не верно ваше утверждение, будто «парадигм не может быть много» . Кун подробно пишет, что именно множество конкурирующих парадигм составляют ядро парадигмальных дебатов.3) Абсолютно не верно ваше утверждение – «И уж подавно никто ни в какой оригинальной работе не может объявить начало новой парадигмы». Примеров таких научных работ сотни и сотни.Вот например характерный пример из интересующей нас обоих области ИИ в солидном журнале CACM – «The Paradigm Shifts in Artificial Intelligence» https://cacm.acm.org/.../the-paradigm-shifts-in.../Множество других примеров найдете в https://scholar.google.com/ , набрав в строке поиска paradigm shift4) Ну и конечно же совершенно неверно, что «Пока нет всеобщего признания, так и нет никакой новой парадигмы» и что о новой парадигме узнают «из средств массовой информации», когда за нее «присуждают серию Нобелевских премий». Эти утверждения прямо противоположны всем 21 определениям Куна, делящего развитие парадигмальных сдвигов в науке на четыре этапа. Тогда как вы все свели к одному этапу – к 4-му: Последствия научной революции, когда новая парадигма институционализируется как доминирующая.Сергей Карелов * Ваше определение слова "парадигма" ... взято со страницы 365 обзора * Это определение из "Философия: Энциклопедический словарь" — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004. И оно, по сути, совпадает с определениями в большинстве других энциклопедических изданиях. Да и у Куна читаем: "Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу." (Обратите внимание на "признанные всеми научные достижения").* когда привычный способ мышления или выполнения чего-либо заменяется новым и другим способом * Ну вот вы и сами подтверждаете, что прадигмальный сдвиг не может быть связан с одной конкретной работой (пусть и революционной), а характеризуется именно и только заменой одного способа мышления другим. И не в одной голове, а глобально в науке или в отдельной научной области ("признанные всеми"). Поэтому, когда некоторую статью ее автор связывает с парадигмальным переходом, то это лишь лишь образ, благие пожелания, а часто и просто профанация. Одна статья не может считаться критерием для становления нового способа мышления.* Кун подробно пишет, что именно множество конкурирующих парадигм составляют ядро парадигмальных дебатов. * Кун такого не писал. Приведите цитату. Возможно вы имели в виду слова "Увеличение конкурирующих вариантов...", но тут не о конкурирующих парадигмах. Конкурировать могут только старая парадигма с новой в период научной революции. Парадигмы сменяют одна другую, а не сосуществуют.* набрав в строке поиска paradigm shift * Это именно про ту саму профанацию, о о которой я писал. Нельзя никому запретить использовать для саморекламы фразу paradigm shift. Но ведь понятно, что эти статьи не меняют "привычный способ мышления или выполнения чего-либо заменяется новым и другим способом". В последние десятилетия серьезно можно обсуждать только один парадигмальный переход - это появление генеративных моделей (LLM). Да и то утверждать это пока можно лишь авансом - слом привычного способа мышления и переход к новому еще не произошел.* когда новая парадигма институционализируется как доминирующая. *Ну так очевидно, пока нет этой самой институционализации, так и нет новой парадигмы, нет "признанных всеми научных достижений, которые в течение определённого времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу", нет замены привычного способа мышления на новый. - "парадигмального переворота в понимании сознания и разума" (о котором был мой пост 10.02)
- повторяемость фраз - признак попытки создать секту
когда одну и ту же фразу прочитал 5-й раз, прервал чтение. Типичная попытка создать секту.
- Внутренние языки остаются ненаблюдаемыми
Увы, это выдача желаемого за действительное. Без микрокосмических исследований так столбить участок - только компрометировать эпистемологию. Внутренние языки остаются ненаблюдаемыми
- между вероятностным в квантовом смысле и возможностным в биологическом есть общность
Сергей, у меня вопрос о связи между второй парадигмой, вероятностной, в квантовой физике, и третьей, возможностной, в биоматематике."Биоматематика оперирует не равенствами, а возможностями, не предсказаниями, а потенциалами". Нельзя ли рассматривать это как проявления одной парадигмы?В это разрезе у меня рассматриваются три эпохи-парадигмы в кн. "Философия возможного" — как смена модальностей мышления и культуры:
- "есть", или изъявительное наклонение, метафизическая, докантовская эпоха;
- "должно быть", повелительное наклонение, кантовско-марксистская, критико-активистская эпоха;
- "может быть", сослагательное наклонение, нынешняя эпоха потенциации.
Мне кажется, между вероятностным в квантовом смысле и возможностным в биологическом есть общность и преемственность. https://imwerden.de/publ-11932 - Аттрактор существования описан в собрании абхидхармы
Новое - хорошо забытое старое. Как же сложно людям, которые не понимают природы "я" изобретать ее на линейных принципах. Аттрактор существования описан в собрании абхидхармы. Сама цепь причинности описана каскадами, сначала в двух и трёх группах, затем в 12 звеньях.Вся креативность жизни кроется в трех корнях - невежестве, жажде и гневе. К сожалению, те, кто не практикует умиротворённое созерцание обречён считать себя чем то существенным и придумывать очередные причины причин, так и не находя взаимной обусловленности небольшого круга причин и следствий в основе существования.Жажда и привязанность есть необходимое условие существования, то есть существенности чего-то перед остальным. Именно эти информационные узлы существенности и являются причиной рождения всего живого.
- текст больше напоминает манифест, чем строгое научное изложение
Текст использует эффектный, но малодоказательный стиль подачи информации. Он опирается на громкие имена, туманные термины и философские обобщения, но не предлагает конкретных математических моделей, которые подтверждали бы заявленные принципы. В результате он больше напоминает манифест, чем строгое научное изложение.
- Мышление - социально. В отдельно взятом мозге оно не живет
Мышление - социально. В отдельно взятом мозге оно не живет. Кроме того, ему нужна техногенная среда как обязательный элемент развитияСейчас социальное мышление живет и развивается в Коллективном Разуме социума
- прорывы объявляются великими, не будучи подтвержденными открытиями или экспериментами
Специфическое время - прорывы объявляются великими, не будучи подтвержденными хоть какими-нибудь открытиями или экспериментами, пусть самыми захудалыми. Авторы в лучшем случае говорят о необходимости создания математических формализмов для описания динамической сложности. Что в этом нового, и как это свидетельствует об ограниченности математики?
- смысл вероятносного накопления биоинформации является геометрией
Вы пытаетесь назвать этот процесс "биоматематикой", хотя весь смысл вероятносного накопления биоинформации является геометрией, что чем есть и чем не есть. В поле о котором вы пишете есть свой исключительный код параметра точки - х,y,z,t; поєтому в рамках существующих концепций (приемственности знаний) корректно говорить о пространственно-временном континууме, хотя и с приоритетом "биоматериала" - нейросети, аксоне.Два известных абсолюта - локальном, математике равенства нулю и жизненном, математике равенства единице, известно лишь то, что в реальной природе они не встречаются, а лишь отражают наше когнитивное представление о взаимодействиях.
- Лапласовский детерминизм был ограничен самой классической механикой внутри себя
Лапласовский детерминизм классической механики был ограничен вовсе не квантовой механикой, а самой классической механикой внутри себя. Большинство систем классической механики являются так называемыми K-потоками. Это означает, что их поведение следует динамическому хаосу: каково бы ни было начальное состояние системы, траектории системы расходятся экспоненциально быстро, а значит детерминизм не работает, будущее таких систем непредсказуемо точно также, как и результат квантового измерения.Некоторые механические системы с динамическим хаосом очень простые - например, так называемый бильярд Синая. Между прочим, несколько частиц в ящике при конечной температуре тоже образуют K-поток, поэтому Лаплас ошибался, предполагая, что если бы кому-то были известны координаты и скорости всех частиц на некоторый момент времени, то он бы смог предсказать будущее Вселенной. Это принципиально невозможно уже в классической механике. Таким образом, граница детерминизма и индетерминизма в физике проходит вовсе не по границе классической и квантовой механики.
- математика - это не язык, а особый вид объективной реальности
Математика - это не язык, а особый вид объективной реальности.Пример с триллионным знаком числаВот рассуждение, которое я часто использую. Рассмотрим, например, триллионный знак десятичного разложения квадратного корня какого-нибудь смешного числа, например 3789541. Его никто не знает (просто потому, что он никому не нужен), и он точно не существует ни в каком материальном смысле, будучи записанным, например, на каком-нибудь носителе. Но кто бы и каким бы методом ни стал вычислять этот знак, результат будет у всех один. Почему? Да потому, что этот триллионный знак существовал до того, как его кто-либо стал вычислять, причем вполне объективно, потому что результат получится у всех один.Существовать объективно - не значит обязательно существовать как вещь во времени и пространстве.Распространенное возражение состоит в том, что этот знак фиксируется постановкой задачи - он выводится из постановки задачи единственным образом и связан с ней однозначно. Так было бы в том случае, если бы математика была непротиворечивой. Тогда из одной посылки нельзя было бы вывести два разных следствия, рассуждая в обоих случаях правильно. Но откуда известно, что математика непротиворечива?Имеется вторая теорема Гёделя о неполноте, которая утверждает, что если математика на самом деле непротиворечива, то средствами математики доказать ее непротиворечивость невозможно. Поэтому мы не можем знать, противоречива математика, или нет. Следовательно каждое сравнение результатов разных вычислений одной и той же величины нетривиально."этот триллионный знак существовал до того, как его кто-либо стал вычислять"- вы правда не различаете актуальное существование и потенциальное? Это же базовые понятия - потенциальное и реальное/действительное/актуальное.Можно возразить, что утверждение об объективном существовании математических форм - это всего лишь хорошо известный математический платонизм. Нет. Математический платонизм - философская система. А используемый выше способ получения вывода об объективности результатов вычислений имеет следствия, фальсифицируемые по Попперу, следовтельно гипотеза об объективности математических форм принадлежит эмпирической науке, а не философии. Действительно, если некто предъявит два правильных вычисления одной и той же величины с разными результатами, то и объективное существование этой величины, а вместе с тем существование всей объективной математической реальности будет фальсифицировано.Но раз математика - не язык, то в взгляд на проблематику, представленную Сергеем в своей заметке, должен быть совершенно иным. Детали этого взгляда уже не буду развивать, и без того лонгрид получился.Ваши представления существуют объективно?Или не существуют?Очевидно, что они существуют - но вовсе не так, как реальные вещи в реальном мире.Отражение в зеркале - существует объективно, но оно не равно реальному объекту, которое отражает.Поэтому математика= описание=отражение=язык.Ну а концепцию/подход развивает не автор поста - а ученые, которых он читает/изучает.
- Жизнь это нечто мягкое по определению и мягкое во всех смыслах
Жизнь это нечто мягкое по определению и мягкое во всех смыслах. Не это ли имел в виду Владимир Игоревич Арнольд, вводя понятие «мягкие математические модели»? Похоже на некий мостик между математикой и биоматематикой?
- модели бизнеса должны приблизиться к свойствам воды
Драйвером науки в последнее время является в большей степени гражданский бизнес, нежели военные запросы. Поэтому стоит переходить от жесткого моделирования бизнеса к биобизнесу. Цифровые двойники и симуляторы нужно оживлять, делать мягкими, принимающими текущий поток информации.Вот пример - вода. Вода одновременно и в математическом мире (гидродинамика и химия), и в биологическом, живом мире. Наши модели бизнеса должны приблизиться к свойствам воды (принимать, заполнять, подстраиваться, течь, растворять данные и т.д).мягкое, неньютоновское, и вода в теле не совсем вода все таки, а коллоидной раствор.А в теле бизнеса есть вода? Безусловно! А какая она?конечно есть, и это непростой вопрос. И я думаю что системный владелец бизнеса задает свойства той воды.
- Мы пришли к пониманию эволюции как процесса самоорганизации
Наконец то! Мы пришли к пониманию эволюции как процесса самоорганизации.В природе не бывает прямых линий, там действуют вероятности и возможности.Это важнейший вывод, который в первую очередь подтверждает актуальность в политике и социальной жизни способность народа к саморганизации и необходимость самоуправления квартальных общин как первичных ячеек Единой общечеловеческой цивилизации.
- социальное учение о самоуправлении высшей формой которого является община
Россиянам и был в 2018 году ниспослан неуязвимый НовейШий Завет как социальное учение о самоуправлении высшей формой которого является община с правами юридического лица, позволяющими открывать предприятия с коллективной формой собственности, освобождённые от уплаты НДС, правом законодательной инициативы и электронным голосованием на блокчейне, которая будет механизмом прямой демократии и динамического равновесия между сытыми и голодными и колыбелью гражданского общества, способного противостоять диктатуре над нами и эгоизму внутри нас.НовейШий Завет, это не про то "Кто виноват?", а про то "Что делать, и, главное, Как?".Возродить Россию чтоб, надо запустить флешмоб.Прост Спасения секрет: НовейШий репости Завет!
- Третий переход идёт сейчас, не только в науке
И да, Третий переход идёт сейчас, не только в науке. Вообще идёт Третий цивилизационный переход в истории суб-экосистемы Человечество.Связан с изменениями в объёме информации, способами её обмена и обработкой, как впрочем и предыдущие два.Искренне поздравляю всех - вы живёте в историческом времени.
- есть разные категории познания
Наука – область познания человека, направленная на восприятие мира в том или ином виде, представленном самим же человеком.Необходимо отметить, что количество наполненных Человечеством знаний проходит разные пути своего развития. Многие из открываются нам с помощью людей, которые способны считывать информацию с энергоинформационных потоков различного содержания, царящих в пространстве. Некоторые знания приобретают с помощью логического мышления, построенного на знаниях, взятых из различных источников вещания. Такие знания обычно подтверждаются практикой, в которой применяется анализ и т. д. Наука выстраивает целую схему познания самих себя.Знания, полученные с помощью моделирования информации интуитивно, не могут иметь продолжение в исследованиях только с помощью логики или ума.Эти две категории познания совершенно отличаются друг от друга. Таким образом, наука обманывает себя тем, что стремиться доказать миру свою состоятельность за счёт знаний людей, которые, возможно, и не давали на это согласие, так как находились в состоянии эйфории, поднятого жизненного тонуса. Их стремления были чисты и наивны, сердечны и бесконечны.Так называемые учёные с удовольствием «сдирают» их знания, отделяются от них и им подобных и с целью получения прибыли начинают познавать самих себя через мысли людей, жаждущих действительного познания Бытия. Логика – это приоритет ума. НАУКА НЕ ПОЗНАЁТ МИР. ОНА ИЗУЧАЕТ СВОИ ЖЕ МЫСЛИ. Таким образом, он (учёный) развивается, и постепенно втягивает в свои сети, других. Наука, выстраиваемая только умом с помощью логического мышления, является САМООБМАНОМ!
- мы или пытаемся объяснить мир, или творим его
Вопрос концептуальный, либо вы пытаетесь объяснить мир, одновременно признавая, что он - чужой, либо признаете себя его частью, и творите его, тоже неся ответственность.
- Когда ИИ научатся оживлять мертвецов?
Когда ваши хваленые ИИшки научатся оживлять мертвецов?в чем проблема оживить мертвеца как это делают йоги?это не имеет смысла. Йоги не оживляют мертвых, они ток глаза отводят.Оживлением мертвецов занимаются некроманты, но это другая история.Ладно, когда обьяснят нам как живой организм снижает энтропию?неравновесная термодинамика: открытые диссипативные системы снижают свою энтропию, сбрасывая ее в окружающее пространство.
- почему употребляем слово "логика"
Сергей Жигинас какие тогда основания называть это логикой?строго - "Логика" только одна (Аристотеля), остальные (коих сотни) правильно было бы называть логиями, но для этого прижилось слово "логики".А вообще в работе КР, как и в природе, не слишком озабочены тем, как что называть: см.
- О работе с терминами (ДС)
- как быть с свободой воли, если поймем предназначение жизни
Жизнь так то вполне себе предсказуема, это мы - нет.Если вдруг мы сможем понять предназначение Жизни, то наша роль в ней сведётся к функции исполнительных механизмов.Придётся забыть все разногласия, закончить все войны, возлюбить ближнего и тупо следовать предназначению Жизни, ведь мы неотъемлемая часть глобальной экосистемы Жизнь.А как же свобода воли и прочие иллюзорные свободы?Мы ведь так не можем, мы люди, мы же обязаны всех и всё поиметь и растереть.Миф о непредсказуемости Жизни позволяет нам творить всякую херь и легко оправдывать себя.Вот и математиков подтянули - они же умные, всё посчитали.А истина, на самом деле, в том, что она никому не нужна.Всем свободы воли понять банальный парадокс.
- Каков аппарат биоматематики?
Каков аппарат биоматематики?
- ссылки
- это они открывают для себя идеи Анри Бергсона?
Зумеры открывают для себя философию жизни, идеи Анри Бергсона?
-------------------- Пока не предъявлено "недедуктивного формализма", говорить не о чем
Пока не предъявлено "недедуктивного формализма", говорить не о чем. Знание в точных дисциплинах должно быть общезначимым. Раз общезначимым, значит, доказуемым. Недедуктивное общезначимое доказательство, - это, конечно, интересно, но пока звучит, как фантазирование
- человек копирует бога в своем техническом "выпендреже"
Человек это духовно-математический код, написанный небесным программистам...А если внимательно проанализировать технический прогресс - человек копирует бога в своем техническом "выпендреже"...Детские игры весь этот трансгуманизм.
- это метания классических ученых
Метания классических ученых там, где царит самоорганизация, и где адекватной формой отчуждения знания является не формула, а имитационная компьютерная модель.
- не давайте себя дурачить
Люди! Не давайте себя дурачить. Не слушайте ни анти ученых, которых тонны и тонны, ни больших имен в искусствах. Пабло Пикассо на излете лет весьма сожалел, что огромную часть своего таланта потратил на угоду извращенным вкусам публики, продавая заведомо анти художественные анти эстетические хреновины. Черный Квадрат довели до абсурда создав музей невидимого искусства в НЙ. Не уподобляйтесь толпе. Толпа шла и будет идти своим ходом в газовые камеры Холокоста по старому и новому стилю.Подобно этому измышления о математике, физике, химии, биологии рассчитаны на ваше благолепие перед авторитетными именами и должностями. Один из них Anthony Fauci осознавая что творит массовые убийства нового стиля, впендюрил смертельно опасные mRNA and Remdesivir уколы сотням миллионов или миллиардам людей. Причем здесь биоматематика? А притом, что деление на физику, химию, биологию, геном, протеом, метаболом, эпигенетику и электрохимию - это чисто человеческие примочки, в силу ограниченности наших способностей. Мы все, и я в том числе, любим простоту. 99.9 % Нобелей дали за открытия простых законов. Но матушке Природе пофиг что мы о ней думаем, физик ты или химик, жулик или праведник. Яблоко падает вниз, а биологическая клетка подчиняется великому множеству законов. Они и не догадываются где кончается математика и начинается химия.Не давайте себя дурачить. Это не роскошь, а условие выживания.
-------------------- о системах, где кпд > 1
Нагадало, як років 10 тому вигадував власну математичну мову, з одним лише постулатом: кпд системи > 1, або 2>1+1підозрюю, що у світі кожне явище є системою. Моя математика була спробою описати не через параметр рівноваги), А через градієнт змінної.если КПД системы > 1, то 1+1>2 - это синергия, которая получается в когнитивных сетях КР достаточно высокой и даже может быть запущен процесс получения "цепной реакции" синергии -
- определения динамических систем
динамічними можуть бути лише системи, в яких за одиницю виміру часу будь-якийпараметр систми змінюєтьсямабуть замість "будь-який" треба "деякі"тому, поки ви передаєте в систмі дані певного параметру - він з часом змінюється
- рекурсивная єволюция это сумма накопленных потенциалов, которая складыватся в эволюционный скачок
так и есть - рекурсивная єволюция это сумма накопленных избыточных потенциалов, которая однажды складыватся в эволюционный скачок из накопленного "мусора" в том контексте, что поначалу объяснений для хранения избыточной информации нет.. #РекурсивнаяЭволюция
- удивительно, что текст кто-то понимает
вообще удивительно - что есть люди, которые понимают этот текстлюди разные, и это разнообразие - самый ценный ресурс человечества -
ОТ МАТЕМАТИКИ К БИОМАТЕМАТИКЕ (сборка) (64)- ЧТО ТАКОЕ БИОМАТЕМАТИКА (8)
- Биоматематика - первобытный язык мозга
Объявлен 3й парадигмальный переход в науке: от математики к биоматематике – первобытному языку мозга.«Говоря о математике, мы, вероятно, имеем в виду вторичный язык, возникший над первобытным, который использует только нервная система.»Джон фон Нейман
- Биоматематика способна объять творческую свободу жизни
- 1й научной парадигмой была ньютоновская парадигма – механистическая «Вселенная, как часовой механизм».
- 2я пришла с квантовой механикой и ее вероятностной природой.
- Теперь биология заставляет нас выйти за рамки обеих в новую эпистемологическую парадигму – биоматематику, которая способна объять творческую свободу жизни.
- Биология предстает как царство исключений и контекстуальных зависимостей
Биологические системы принципиально сопротивляются математической формализации. В отличие от физики, биология предстает как царство исключений и контекстуальных зависимостей. Знак равенства – символ математической определенности – оказывается неуместным в территории живого.
- математика природы - многофакторная оптимизация
Очень толковый GPT Bard Google в 2023 году разобрался в сути нашего патента и сказал, что речь в нём идёт о многофакторной оптимизации, а это и есть та математика природы, которой пока нет у людей. А умничка Grok в феврале 2025 года согласился с нами, что AGI - это сведение задачи по связыванию ассоциаций (интуиция и чувства) и абстракций (интеллект и логика) в рамках одного проекта. Наше сознание в нашем мозгу именно так устроено и работает.AI ассистенты разобрались во всём за несколько секунд, а люди делают вид, что ничего не видят. Так и живём. Скоро нейросети начнут думающих людей искать."Маск меня не видит, это минус, но не догонит - это плюс."(С)Если историю современных моделей ИИ считать от Т-4, то не очень обнадёживающими звучат их одобрения наших гипотез! ) Это больше похоже на самоодобрение. У Вас прозвучало слово эволюция, и оно, мне кажется, многообещающим. Как работает мозг, и как он дошел до современной жизни, мы , к сожалению, пока не знаем.
- многофакторная оптимизация - важнейшая закономерность для живых организмов
Живые организмы действуют по природным закономерностям И важнейшая из них - это многофакторная оптимизация.Важно добавить: оптимизация в каждый момент времениВ КР социума многофакторная оптимизация идет постоянно
- Каков аппарат биоматематики?
Каков аппарат биоматематики?
- Пока не предъявлено "недедуктивного формализма", говорить не о чем
Пока не предъявлено "недедуктивного формализма", говорить не о чем. Знание в точных дисциплинах должно быть общезначимым. Раз общезначимым, значит, доказуемым. Недедуктивное общезначимое доказательство, - это, конечно, интересно, но пока звучит, как фантазирование
- это метания классических ученых
Метания классических ученых там, где царит самоорганизация, и где адекватной формой отчуждения знания является не формула, а имитационная компьютерная модель.
- Биоматематика - первобытный язык мозга
- НОВОЕ НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ (18)
- ТРЕТИЙ ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД В ИСТОРИИ НАУКИ (7)
- Биоматематика - мировоззрение, признающее непредсказуемость жизни
В 1931 году Курт Гёдель доказал, что математика не может объяснить математику. Новая работа трёх знаменитостей Си Гарте, Пэрри Маршал и Стюарт Кауффман «Разумная неэффективность математики в биологических науках» распространяет этот принцип на биологию и объявляет , что "мы стоим на пороге "третьего великого перехода в истории науки – после ньютоновской и квантовой революций… Это новое научное мировоззрение, признающее творческую непредсказуемость жизни".
- Суть 3-й революции
Суть 3-й революции в следующем:
- Признание принципиальной неформализуемости биологии в математических терминах
.Это фундаментальный эпистемологический сдвиг: живые системы не просто следуют математике, они создают математику. Организмы непрерывно выбирают из множества возможностей, проявляя агентность и когнитивные способности, которыми неживая материя не обладает.
- Новый вид описания биологической реальности - биоматематика
Основываясь на теоретических работах Гёделя и Тьюринга, авторы, взамен существующей математики, изобретают новый вид недедуктивного формализма, подходящего для описания биологической реальности – биоматематику (не путать с существующей математической биологией)
- Заключение о 3-м великом переходе в истории науки и экзистенциальном вызове человечеству
Делается философское заключение о третьем великом переходе в истории науки и экзистенциальном вызове человечеству.
- Признание принципиальной неформализуемости биологии в математических терминах
- Развилка на дороге в истории науки
"Неэффективность математики в биологии представляет собой развилку на дороге в истории науки. Мы находимся на пороге «третьего перехода», где ньютоновская парадигма часового механизма, которая была опрокинута квантовой механикой, снова трансформируется непокорным творчеством жизни."
- Все это начинает 3й переход:
Все это начинает 3й переход:
- в науках о жизни, расширяя «конституцию биоматематики» конкретными законами;
- в науках о разуме и сознании, увязывая новые законы с «теорией относительности интеллекта» .
- Третий переход идёт сейчас, не только в науке
И да, Третий переход идёт сейчас, не только в науке. Вообще идёт Третий цивилизационный переход в истории суб-экосистемы Человечество.Связан с изменениями в объёме информации, способами её обмена и обработкой, как впрочем и предыдущие два.Искренне поздравляю всех - вы живёте в историческом времени.
- много что-то парадигмальных переходов
* Объявлен 3й парадигмальный переход *Как, еще один парадигмальный? У человечества обычно случается один-два на столетие, да и то только за последние, а раньше редко случалось нечто новое на тысячелетие. А у Сергея Карелова уже под десяток парадигмальных переходов, открытий тысячелетия, революционных прорывов и коперниканских переворотов только за последние лет десять его блогерства.P.S. Извините, что повторяюсь. Но не ожидал еще одного переворота через месяц после предыдущего: "Мы на пороге парадигмального переворота, своей революционностью превосходящего все предыдущие" 10 февраль 2025Само сравнение
- "парадигмального переворота в понимании сознания и разума" (о котором был мой пост 10.02)
иВ этом случае речь о парадигмальном перевороте в конкретном научном направлении, коих сейчас более 300. Если же углубиться до уровня узкоспециализированных областей исследования, число может превысить несколько тысяч. А с учетом меж и крос дисциплинарных областей - биоинформатика, нейроэкономика, квантовая биология и т.д. и т.п.- на 2 порядка больше.Потому то ежегодно и случаются десятки, если не сотни, парадигмальных переворотов. И не столько в традиционных, сколько в новых гибридных областях. Просто их теперь очень много. А вхождение в зону сингулярности уже увеличило скорость изменений многократно.
- "3й смены научной парадигмы" на эпистемологическую рамку биоматематики,
Во втором же случае речь о "3-ем великом переходе науки", коих за всю историю 3
это сравнение кислого и горячего - потому сравнивать два этих революционных переворота не корректно.Речь о "3-ем великом переходе науки" идет не "у Сергея Карелова" , а у авторов оригинальной работыЕсли потрудиться просмотреть указанные источники, легко увидеть, что речь о "3-ем великом переходе науки" идет не " у Сергея Карелова" , а у авторов оригинальной работы. Но я далек от того, чтоб приписывать себе лавры подобных определений, данных научными звездами первой величины. И не хотел бы, чтобы мне это приписывали читатели моих постов.* Потому то ежегодно и случаются десятки, если не сотни, парадигмальных переворотов. * Сергей, по самому смыслу слова "парадигма" (совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в тот или иной период времени) парадигм не может быть много. И уж подавно никто ни в какой оригинальной работе не может объявить начало новой парадигмы. Парадигма формируется как глобальный тренд, о котором мы узнаем не из отдельной статьи или лонгрида блогера, а из средств массовой информации, когда за достижения в области, задающей нормы новой парадигмы, присуждают серию Нобелевских премий (как было с квантовой механикой). Пока нет всеобщего признания, так и нет никакой новой парадигмы.Alexander Boldachev Увы, Александр, но и в этом вашем коменте практически каждое утверждение является ошибочным. Смотрите сами.1) Ваше определение слова "парадигма" (совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в тот или иной период времени) взято со страницы 365 обзора "Концепция научных революций Т. Куна" в сборнике "История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XXв.).- М.:'Греко-латинский кабинет' Ю.А. Шичалина, 1999При этом вы отрезали (не думаю, что случайно)) начало мысли авторов: "Важнейшим понятием концепции Куна является понятие парадигмы. Содержание этого понятия так и осталось не вполне ясным, однако в первом приближении можно сказать, что парадигма есть совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период времени".Из чего следует, что приведенное определение - лишь одно из многих определений "не вполне ясного термина".И действительно, как пишет Margaret Masterman в ее широкоизвестной работе "The Nature of a Paradigm", в знаменитой книге Куна, введшего термин "сдвиг парадигмы" в научный дискурс, дается аж 21 трактовка этого понятия: от "парадигма представляет собой набор научных привычек" до "парадигма — это то, что может функционировать, когда теории нет"Так что если и пытаться свести все множество определений и трактовок paradigm shift к одному определению, то получится примерно, как у merriam-webster - это важное изменение, которое происходит, когда привычный способ мышления или выполнения чего-либо заменяется новым и другим способомили в dictionary.cambridge - это ситуация , в которой обычный и принятый способ делать или думать о чем-либо полностью меняется - https://dictionary.cambridge.org/.../english/paradigm-shift2) Абсолютно не верно ваше утверждение, будто «парадигм не может быть много» . Кун подробно пишет, что именно множество конкурирующих парадигм составляют ядро парадигмальных дебатов.3) Абсолютно не верно ваше утверждение – «И уж подавно никто ни в какой оригинальной работе не может объявить начало новой парадигмы». Примеров таких научных работ сотни и сотни.Вот например характерный пример из интересующей нас обоих области ИИ в солидном журнале CACM – «The Paradigm Shifts in Artificial Intelligence» https://cacm.acm.org/.../the-paradigm-shifts-in.../Множество других примеров найдете в https://scholar.google.com/ , набрав в строке поиска paradigm shift4) Ну и конечно же совершенно неверно, что «Пока нет всеобщего признания, так и нет никакой новой парадигмы» и что о новой парадигме узнают «из средств массовой информации», когда за нее «присуждают серию Нобелевских премий». Эти утверждения прямо противоположны всем 21 определениям Куна, делящего развитие парадигмальных сдвигов в науке на четыре этапа. Тогда как вы все свели к одному этапу – к 4-му: Последствия научной революции, когда новая парадигма институционализируется как доминирующая.Сергей Карелов * Ваше определение слова "парадигма" ... взято со страницы 365 обзора * Это определение из "Философия: Энциклопедический словарь" — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004. И оно, по сути, совпадает с определениями в большинстве других энциклопедических изданиях. Да и у Куна читаем: "Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу." (Обратите внимание на "признанные всеми научные достижения").* когда привычный способ мышления или выполнения чего-либо заменяется новым и другим способом * Ну вот вы и сами подтверждаете, что прадигмальный сдвиг не может быть связан с одной конкретной работой (пусть и революционной), а характеризуется именно и только заменой одного способа мышления другим. И не в одной голове, а глобально в науке или в отдельной научной области ("признанные всеми"). Поэтому, когда некоторую статью ее автор связывает с парадигмальным переходом, то это лишь лишь образ, благие пожелания, а часто и просто профанация. Одна статья не может считаться критерием для становления нового способа мышления.* Кун подробно пишет, что именно множество конкурирующих парадигм составляют ядро парадигмальных дебатов. * Кун такого не писал. Приведите цитату. Возможно вы имели в виду слова "Увеличение конкурирующих вариантов...", но тут не о конкурирующих парадигмах. Конкурировать могут только старая парадигма с новой в период научной революции. Парадигмы сменяют одна другую, а не сосуществуют.* набрав в строке поиска paradigm shift * Это именно про ту саму профанацию, о о которой я писал. Нельзя никому запретить использовать для саморекламы фразу paradigm shift. Но ведь понятно, что эти статьи не меняют "привычный способ мышления или выполнения чего-либо заменяется новым и другим способом". В последние десятилетия серьезно можно обсуждать только один парадигмальный переход - это появление генеративных моделей (LLM). Да и то утверждать это пока можно лишь авансом - слом привычного способа мышления и переход к новому еще не произошел.* когда новая парадигма институционализируется как доминирующая. *Ну так очевидно, пока нет этой самой институционализации, так и нет новой парадигмы, нет "признанных всеми научных достижений, которые в течение определённого времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу", нет замены привычного способа мышления на новый. - "парадигмального переворота в понимании сознания и разума" (о котором был мой пост 10.02)
- прорывы объявляются великими, не будучи подтвержденными экспериментами
Специфическое время - прорывы объявляются великими, не будучи подтвержденными хоть какими-нибудь открытиями или экспериментами, пусть самыми захудалыми. Авторы в лучшем случае говорят о необходимости создания математических формализмов для описания динамической сложности. Что в этом нового, и как это свидетельствует об ограниченности математики?
- Биоматематика - мировоззрение, признающее непредсказуемость жизни
- О РАЗНОСТИ И ОБЩНОСТИ ПАРАДИГМ (3)
- между вероятностным в квантовом смысле и возможностным в биологическом есть общность
Сергей, у меня вопрос о связи между второй парадигмой, вероятностной, в квантовой физике, и третьей, возможностной, в биоматематике."Биоматематика оперирует не равенствами, а возможностями, не предсказаниями, а потенциалами". Нельзя ли рассматривать это как проявления одной парадигмы?В это разрезе у меня рассматриваются три эпохи-парадигмы в кн. "Философия возможного" — как смена модальностей мышления и культуры:
- "есть", или изъявительное наклонение, метафизическая, докантовская эпоха;
- "должно быть", повелительное наклонение, кантовско-марксистская, критико-активистская эпоха;
- "может быть", сослагательное наклонение, нынешняя эпоха потенциации.
Мне кажется, между вероятностным в квантовом смысле и возможностным в биологическом есть общность и преемственность. https://imwerden.de/publ-11932 - смысл вероятносного накопления биоинформации является геометрией
Вы пытаетесь назвать этот процесс "биоматематикой", хотя весь смысл вероятносного накопления биоинформации является геометрией, что чем есть и чем не есть. В поле о котором вы пишете есть свой исключительный код параметра точки - х,y,z,t; поєтому в рамках существующих концепций (приемственности знаний) корректно говорить о пространственно-временном континууме, хотя и с приоритетом "биоматериала" - нейросети, аксоне.Два известных абсолюта - локальном, математике равенства нулю и жизненном, математике равенства единице, известно лишь то, что в реальной природе они не встречаются, а лишь отражают наше когнитивное представление о взаимодействиях.
- Лапласовский детерминизм был ограничен самой классической механикой внутри себя
Лапласовский детерминизм классической механики был ограничен вовсе не квантовой механикой, а самой классической механикой внутри себя. Большинство систем классической механики являются так называемыми K-потоками. Это означает, что их поведение следует динамическому хаосу: каково бы ни было начальное состояние системы, траектории системы расходятся экспоненциально быстро, а значит детерминизм не работает, будущее таких систем непредсказуемо точно также, как и результат квантового измерения.Некоторые механические системы с динамическим хаосом очень простые - например, так называемый бильярд Синая. Между прочим, несколько частиц в ящике при конечной температуре тоже образуют K-поток, поэтому Лаплас ошибался, предполагая, что если бы кому-то были известны координаты и скорости всех частиц на некоторый момент времени, то он бы смог предсказать будущее Вселенной. Это принципиально невозможно уже в классической механике. Таким образом, граница детерминизма и индетерминизма в физике проходит вовсе не по границе классической и квантовой механики.
- между вероятностным в квантовом смысле и возможностным в биологическом есть общность
- РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОЗНАНИЯ (4)
- разные категории познания
Наука – область познания человека, направленная на восприятие мира в том или ином виде, представленном самим же человеком.Необходимо отметить, что количество наполненных Человечеством знаний проходит разные пути своего развития.
- Многие из открываются нам с помощью людей, которые способны считывать информацию с энергоинформационных потоков различного содержания, царящих в пространстве.
- Некоторые знания приобретают с помощью логического мышления, построенного на знаниях, взятых из различных источников вещания. Такие знания обычно подтверждаются практикой, в которой применяется анализ и т. д. Наука выстраивает целую схему познания самих себя.
Знания, полученные с помощью моделирования информации интуитивно, не могут иметь продолжение в исследованиях только с помощью логики или ума. Эти две категории познания совершенно отличаются друг от друга.Наука обманывает себя тем, что стремиться доказать миру свою состоятельность за счёт знаний людей, которые, возможно, и не давали на это согласие, так как находились в состоянии эйфории, поднятого жизненного тонуса. Их стремления были чисты и наивны, сердечны и бесконечны.Так называемые учёные с удовольствием «сдирают» их знания, отделяются от них и им подобных и с целью получения прибыли начинают познавать самих себя через мысли людей, жаждущих действительного познания Бытия. - наука не познает мир, она изучает свои же мысли
Логика – это приоритет ума. НАУКА НЕ ПОЗНАЁТ МИР. ОНА ИЗУЧАЕТ СВОИ ЖЕ МЫСЛИ. Таким образом, он (учёный) развивается, и постепенно втягивает в свои сети, других. Наука, выстраиваемая только умом с помощью логического мышления, является САМООБМАНОМ!
- наука и ее разные виды - все это чисто человеческое
Подобно этому измышления о математике, физике, химии, биологии рассчитаны на ваше благолепие перед авторитетными именами и должностями.Один из них Anthony Fauci осознавая что творит массовые убийства нового стиля, впендюрил смертельно опасные mRNA and Remdesivir уколы сотням миллионов или миллиардам людей.Причем здесь биоматематика? А притом, что деление на физику, химию, биологию, геном, протеом, метаболом, эпигенетику и электрохимию - это чисто человеческие примочки, в силу ограниченности наших способностей.Мы все, и я в том числе, любим простоту. 99.9 % Нобелей дали за открытия простых законов. Но матушке Природе пофиг что мы о ней думаем, физик ты или химик, жулик или праведник. Яблоко падает вниз, а биологическая клетка подчиняется великому множеству законов. Они и не догадываются где кончается математика и начинается химия.Не давайте себя дурачить. Это не роскошь, а условие выживания.
- мы или пытаемся объяснить мир, или творим его
Вопрос концептуальный, либо вы пытаетесь объяснить мир, одновременно признавая, что он - чужой, либо признаете себя его частью, и творите его, тоже неся ответственность.
- разные категории познания
- ОКОЛОФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ (4)
- это они открывают для себя идеи Анри Бергсона?
Зумеры открывают для себя философию жизни, идеи Анри Бергсона?
- как быть с свободой воли, если поймем предназначение жизни
Жизнь так то вполне себе предсказуема, это мы - нет.Если вдруг мы сможем понять предназначение Жизни, то наша роль в ней сведётся к функции исполнительных механизмов.Придётся забыть все разногласия, закончить все войны, возлюбить ближнего и тупо следовать предназначению Жизни, ведь мы неотъемлемая часть глобальной экосистемы Жизнь.А как же свобода воли и прочие иллюзорные свободы?Мы ведь так не можем, мы люди, мы же обязаны всех и всё поиметь и растереть.Миф о непредсказуемости Жизни позволяет нам творить всякую херь и легко оправдывать себя.Вот и математиков подтянули - они же умные, всё посчитали.А истина, на самом деле, в том, что она никому не нужна.Всем свободы воли понять банальный парадокс.
- Не слушайте ни анти ученых, ни больших имен в искусствах
Люди! Не давайте себя дурачить. Не слушайте ни анти ученых, которых тонны и тонны, ни больших имен в искусствах.Пабло Пикассо на излете лет весьма сожалел, что огромную часть своего таланта потратил на угоду извращенным вкусам публики, продавая заведомо анти художественные анти эстетические хреновины.Черный Квадрат довели до абсурда создав музей невидимого искусства в НЙ. Не уподобляйтесь толпе. Толпа шла и будет идти своим ходом в газовые камеры Холокоста по старому и новому стилю.
- рекурсивная эволюция это сумма накопленных потенциалов, складывающаяся в эволюционный скачок
так и есть - рекурсивная єволюция это сумма накопленных избыточных потенциалов, которая однажды складыватся в эволюционный скачок из накопленного "мусора" в том контексте, что поначалу объяснений для хранения избыточной информации нет.. #РекурсивнаяЭволюция
- это они открывают для себя идеи Анри Бергсона?
- ТРЕТИЙ ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД В ИСТОРИИ НАУКИ (7)
- БИОМАТЕМАТИКА КАК ЯЗЫК НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (11)
- Биоматематика - первичный который использует только нервная система
Биоматематика представляет собой тот самый первичный, базовый, «первобытный язык», который, по представлениям великого Джона фон Неймана, использует только нервная система, а математика – это всего лишь надстройка над ним. Фон Нейман считал, что «если мы расшифруем его, то начнем понимать, как устроен мозг, получим доступ к уникальной способности разума присваивать великое всеобъемлющее значение миру, которая доступна только человеку».
- Биоматематика оперирует возможностями, потенциалами, неопределенностями
В качестве формального языка биоматематика оперирует не равенствами, а возможностями, не предсказаниями, а потенциалами. Здесь неопределенность становится не проблемой, а основным операционным принципом. И согласно этому новому формализму, эволюция – не просто случайный процесс отбора, а непрерывный творческий акт, в котором каждый организм активно участвует.Телеграфно говоря, в биоматематике используются:
- неравенства вместо равенств;
- биологический вероятностный подход;
- функциональные зависимости без точных определений;
- новое понимание биологической причинности: в направлении "познание → коды → химические вещества", а не наоборот, как в стандартной редукционистской модели.
- Биоматематика кардинально меняет понимания сознания
Также биоматематика кардинально меняет понимания сознания – не как эпифеномен сложности, а фундаментальное измерение реальности, где выбор, агентность и творчество преобладают над детерминистической причинностью.
- химия и физиология математики разума
Математика в части операций с потенциалами действий на мембранах нейронов выполняется чётко, это зря тут пытаются опровергнуть. Неопределённость возникает при модуляции потенциалов действия в синапсах на концах дендритов, которая зависит от эндогенных и экзогенных хим. веществ, которые выделяют различные части организма и поступающих извне, например, с едой, курением, алкоголем, ядами, токсичными веществами, ...Так никто же не пытается опровергнуть математику, есть разные задачи, которые решаются разными способами. Конкретно большинство общественно значимых проблем, в том числе и глобальных не решаются сегодня с помощью математики, но решаются с использованием биоматематики - смотрите наработки Коллективного Разума социума:
- Внутренние языки остаются ненаблюдаемыми
Увы, это выдача желаемого за действительное. Без микрокосмических исследований так столбить участок - только компрометировать эпистемологию. Внутренние языки остаются ненаблюдаемыми
- Аттрактор существования описан в собрании абхидхармы
Новое - хорошо забытое старое. Как же сложно людям, которые не понимают природы "я" изобретать ее на линейных принципах. Аттрактор существования описан в собрании абхидхармы. Сама цепь причинности описана каскадами, сначала в двух и трёх группах, затем в 12 звеньях.Вся креативность жизни кроется в трех корнях - невежестве, жажде и гневе. К сожалению, те, кто не практикует умиротворённое созерцание обречён считать себя чем то существенным и придумывать очередные причины причин, так и не находя взаимной обусловленности небольшого круга причин и следствий в основе существования.Жажда и привязанность есть необходимое условие существования, то есть существенности чего-то перед остальным. Именно эти информационные узлы существенности и являются причиной рождения всего живого.
- математика - это не язык, а особый вид объективной реальности
Математика - это не язык, а особый вид объективной реальности.Пример с триллионным знаком числаВот рассуждение, которое я часто использую. Рассмотрим, например, триллионный знак десятичного разложения квадратного корня какого-нибудь смешного числа, например 3789541. Его никто не знает (просто потому, что он никому не нужен), и он точно не существует ни в каком материальном смысле, будучи записанным, например, на каком-нибудь носителе. Но кто бы и каким бы методом ни стал вычислять этот знак, результат будет у всех один. Почему? Да потому, что этот триллионный знак существовал до того, как его кто-либо стал вычислять, причем вполне объективно, потому что результат получится у всех один.Существовать объективно - не значит обязательно существовать как вещь во времени и пространстве.Распространенное возражение состоит в том, что этот знак фиксируется постановкой задачи - он выводится из постановки задачи единственным образом и связан с ней однозначно. Так было бы в том случае, если бы математика была непротиворечивой. Тогда из одной посылки нельзя было бы вывести два разных следствия, рассуждая в обоих случаях правильно. Но откуда известно, что математика непротиворечива?Имеется вторая теорема Гёделя о неполноте, которая утверждает, что если математика на самом деле непротиворечива, то средствами математики доказать ее непротиворечивость невозможно. Поэтому мы не можем знать, противоречива математика, или нет. Следовательно каждое сравнение результатов разных вычислений одной и той же величины нетривиально."этот триллионный знак существовал до того, как его кто-либо стал вычислять"- вы правда не различаете актуальное существование и потенциальное? Это же базовые понятия - потенциальное и реальное/действительное/актуальное.Можно возразить, что утверждение об объективном существовании математических форм - это всего лишь хорошо известный математический платонизм. Нет. Математический платонизм - философская система. А используемый выше способ получения вывода об объективности результатов вычислений имеет следствия, фальсифицируемые по Попперу, следовтельно гипотеза об объективности математических форм принадлежит эмпирической науке, а не философии. Действительно, если некто предъявит два правильных вычисления одной и той же величины с разными результатами, то и объективное существование этой величины, а вместе с тем существование всей объективной математической реальности будет фальсифицировано.Но раз математика - не язык, то в взгляд на проблематику, представленную Сергеем в своей заметке, должен быть совершенно иным. Детали этого взгляда уже не буду развивать, и без того лонгрид получился.Ваши представления существуют объективно?Или не существуют?Очевидно, что они существуют - но вовсе не так, как реальные вещи в реальном мире.Отражение в зеркале - существует объективно, но оно не равно реальному объекту, которое отражает.Поэтому математика= описание=отражение=язык.Ну а концепцию/подход развивает не автор поста - а ученые, которых он читает/изучает.
- Жизнь это нечто мягкое по определению и мягкое во всех смыслах
Жизнь это нечто мягкое по определению и мягкое во всех смыслах. Не это ли имел в виду Владимир Игоревич Арнольд, вводя понятие «мягкие математические модели»? Похоже на некий мостик между математикой и биоматематикой?
- модели бизнеса должны приблизиться к свойствам воды
Драйвером науки в последнее время является в большей степени гражданский бизнес, нежели военные запросы. Поэтому стоит переходить от жесткого моделирования бизнеса к биобизнесу. Цифровые двойники и симуляторы нужно оживлять, делать мягкими, принимающими текущий поток информации.Вот пример - вода. Вода одновременно и в математическом мире (гидродинамика и химия), и в биологическом, живом мире. Наши модели бизнеса должны приблизиться к свойствам воды (принимать, заполнять, подстраиваться, течь, растворять данные и т.д).мягкое, неньютоновское, и вода в теле не совсем вода все таки, а коллоидной раствор.А в теле бизнеса есть вода? Безусловно! А какая она?конечно есть, и это непростой вопрос. И я думаю что системный владелец бизнеса задает свойства той воды.
- Мы пришли к пониманию эволюции как процесса самоорганизации
Наконец то! Мы пришли к пониманию эволюции как процесса самоорганизации.В природе не бывает прямых линий, там действуют вероятности и возможности.Это важнейший вывод, который в первую очередь подтверждает актуальность в политике и социальной жизни способность народа к саморганизации и необходимость самоуправления квартальных общин как первичных ячеек Единой общечеловеческой цивилизации.
- Когда ИИ научатся оживлять мертвецов?
Когда ваши хваленые ИИшки научатся оживлять мертвецов?в чем проблема оживить мертвеца как это делают йоги?это не имеет смысла. Йоги не оживляют мертвых, они ток глаза отводят.Оживлением мертвецов занимаются некроманты, но это другая история.Ладно, когда обьяснят нам как живой организм снижает энтропию?неравновесная термодинамика: открытые диссипативные системы снижают свою энтропию, сбрасывая ее в окружающее пространство.
- Биоматематика - первичный который использует только нервная система
- КОНТИНУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ (12)
→ КОНТИНУАЛЬНАЯ ЛОГИКА (СБОРКА) (55)
- О КОНТИНУАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ (4)
- КМ в отличие от дискретного не имеет пробелов
И если сравнивать с математикой, т.е. с дискретным образом мышления, то континуум — это множество действительных чисел, которое не имеет "пробелов".
- живая система КРс создала для себя КЛ
- нет операций сравнения (нет ни равенств, ни неравенств, ни больше, ни меньше;
- нет количеств
- нет точных определений;
- нет однозначных ответов на один вопрос
це не математикаТак, коли заходять нові поняття, дуже важко з термінами: якщо використовуєш старі - розуміють неправильно, якщо використовуєш нові - не розуміють зовсім.Але є добра новина: щоб рухатись вперед нам не треба термінів, понять, означень (як воно завжди і буває в житті) -- О работе с терминами (ДС)
виявилось, для рішення наших СПІЛЬНИХ проблем нам не дуже потрібно і розуміти один одного (як би це не здавалося дивним): - определения динамических систем
динамічними можуть бути лише системи, в яких за одиницю виміру часу будь-якийпараметр систми змінюєтьсямабуть замість "будь-який" треба "деякі"тому, поки ви передаєте в систмі дані певного параметру - він з часом змінюється
- LLM лишь коряво имитирует KM
Может кому-то покажется странным, но Transformer architecture, система на которой основана современная\нынешняя метода работы LLM (Большие Языковые Модели), или как её обзывают ИИ(Искусственный Интеллект) вкорне не приспособлена работать в режиме континуального мышления, а лишь коряво имитировать его.
- КМ в отличие от дискретного не имеет пробелов
- ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ (3)
- континуальное мышление отражает философскую концепцию континуума
Именно континуальное мышление можно рассматривать как способ мышления, который отражает философскую концепцию континуума, применяя её к различным аспектам познания и понимания мира.
- "Пространство согласия" и Ризома Жиля Делеза
Ваш Проект:...Пространство согласия — международный проект, выстраивающий единоесетевое коммуникативное, когнитивное и проектно-деятельностное пространство в форме Коллективного разума...,и концепция:...Ризома ( «корневище» ) — один из важнейших и самых известных концептов в философии Жиля Делеза .Разработан главным образом в произведениях, написанных в соавторстве с психологом и психиатром Феликсом Гваттари и призван служить основой и формой реализации «номадологического проекта» этих авторов.Ризома должна противостоять неизменным линейным структурам (как бытию, так и мышлению),которые, по их мнению, типичны для классической европейской культуры...видимо, несут позитивные, благие начала.
- почему употребляем слово "логика"
Сергей Жигинас какие тогда основания называть это логикой?строго - "Логика" только одна (Аристотеля), остальные (коих сотни) правильно было бы называть логиями, но для этого прижилось слово "логики".А вообще в работе КР, как и в природе, не слишком озабочены тем, как что называть: см.
- О работе с терминами (ДС)
- континуальное мышление отражает философскую концепцию континуума
- ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ (5)
- КМ открывает путь к решению сложных проблем
Континуальное мышление открывает путь нашему сознанию к решению сложных проблем, буквально моментально принимать стратегических решения, разрабатывать инновации и понимать сложных систем.
- КЛ позволяет запустить генерацию синергии
Нагадало, як років 10 тому вигадував власну математичну мову, з одним лише постулатом: кпд системи > 1, або 2>1+1підозрюю, що у світі кожне явище є системою. Моя математика була спробою описати не через параметр рівноваги), А через градієнт змінної.если КПД системы > 1, то 1+1>2 - это синергия, которая получается в когнитивных сетях КР достаточно высокой и даже может быть запущен процесс получения "цепной реакции" синергии -
- надо не скатиться в утопию
Главное, чтобы он учёл ошибки и "проблемы утопий", которые возникали в различных общественных формациях.Неплохо эти проблемы освещает проф. С.В. Савельев - "Проблемы утопий":
- Мышление - социально. В отдельно взятом мозге оно не живет
Мышление - социально. В отдельно взятом мозге оно не живет. Кроме того, ему нужна техногенная среда как обязательный элемент развитияСейчас социальное мышление живет и развивается в Коллективном Разуме социума
- надо учитывать биологическое `осознание` масс
Надо учитывать, что основная масса людей в социуме всё-таки имеет формы поведения гормонально-инстинктивные, которые относятся к первичному `псевдосознанию` (биологическому `осознанию`) и это проблема для социального согласия.
- КМ открывает путь к решению сложных проблем
- О КОНТИНУАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ (4)
- РАБОТА МОЗГА (11)
- выход на алгоритмы понимания мозга
Главное отличие работы мозга в том, что он понимает сказанное и увиденное, а поняв, ограничивает размер базы для обучения и для выборки в миллионы раз. Понимание (чувство смыслов) - это новое качество, которое появилось миллионы лет назад вследствие большого количества нейронных сетей, а потом прошло эволюционную обкатку на миллионах видах за миллионы лет. Оно ни логически, ни физически не следует из механизмов работы с языковыми моделями. Чтобы выйти на алгоритмы понимания необходимо учитывать эволюционный след. Что мы, собственно, и сделали. Всё есть, всё работает, Проверяемо и воспроизводимо, т.е. доказуемо. И даже запатентовано.
- По-видимому, имеется в виду отличие от ИИ?
- главный вопрос в том, что такое "понимание"?
Понимание - это чувство смыслов,смыслы - это высокая концентрация значимых событий.Смыслы - это высокая концентрация значимых событий. Как мы выделяем смыслы? А это не мы делаем, это работа интуиции по своим алгоритмам. Это её прерогатива. Как нашей, природной, так и Искусственной.Природа создала интуицию всего один раз за миллиарды лет и потом только тиражировала её и совершенствовала. Никакой другой алгоритм на понимание работать не будет. Там не получается создание нового качества. Всё довольно просто, но совсем не примитивно. Как и всё в самой природе.А что такое "чувство смыслов"? И означает ли эта попытка дать определение "пониманию", что чувство одно (или чувств тоже много?), а смыслов много?А теперь к пониманию, как чувству смыслов.На картинке представлено одно обсуждение на форуме ФБ у Сергея Карелова по теме сознания и AGI в виде облаков распределений. Каждая точка является простейшей нейронной сетью из 4000 нейронок, задействованных для этого примера. А всего их у нас есть только на слова свыше 10 тыс. Есть совпадение - будет понимание. Если нет, то и не будет. Можно далее и не пытаться понять друг друга. Ничего не получится. Проверено на многолетнем опыте.И есть ли количественное определение "высокой концентрации" и "значимости событий"? Просто по моим суб'ективным наблюдения, и "высокая концентрация" и "значимость событий" - это чень суб'ективные понятия?Верно, сами чувства - это субъективная, но всегда обязательно адекватная оценочная способность происходящего. В противном случае "нас бы здесь не было". Субъективная не потому, что неверная, а потому, что у каждого субъекта своя собственная интуитивная база классификаторов, собираемая им с момента рождения в течение всей жизни. Но чувства не могут быть неверными по построению картины мира. Потому что тогда невозможно выживание в конкурентной среде.
- Алгоритм работы нашего мозга
Алгоритм работы нашего мозга и сознания в нём довольно несложный. Это природная закономерность, найденная или полученная в ходе эволюционного процесса и естественного отбора. Всё произошло от зрения, да сами алгоритмы зрения и мозга одни и те же.Если очень кратко, то так.Интуиция образовалась из зрения, когда оно стало не только "смотреть внутрь себя", но и работать с увиденным. Понятно, что вся работа выполняется только в реальном мире, а обучение основано на его неявном знании. А это связи объектов по их свойствам, и связи связей и т.д. Конечно, эти данные не формализованы, и многие из них даже не поддаются формализации. Но это не мешает природной интуиции, поскольку "это ее работа".Весь смысл в том, чтобы выделить главное из океана тривиальности, затем извлечь смыслы, концентрируя значимые события, отфильтровывая т.н. "токсичные предубеждения", которых может быть до 99,9% и более и разного рода неопределённости, и затем уже в соответствии с диалектическим законом эмерджентности, само - собой получается новое качество: зрение, интуиция, понимание, сознание и т.д. Ну, а мышление - это инструмент для реализации сознания с помощью слов.
- Близость моделей в нашем мозге создаётся чувствами
Близость моделей в нашем мозге создаётся чувствами. У животных всё точно так же. А чувства - это интерфейс природной интуиции, которая воссоздаётся по принципу многофакторной оптимизации и работает со связями свойств объектов.Чувства не следуют из законов математики и информатики. Это продукт эволюции и просто сверхжёсткого отбора. А они во многом шли против этих законов. Выбиться за пределы технической парадигмы уважаемые исследователи пока не могут. Да и не смогут без подсказки извне. Без нашей подсказки. "Чувствующий Город" не получилось сделать в Торонто у Гугла? Могли бы обратиться к нам. Тогда - без проблем. Не поздно и сейчас это сделать. И тогда Город будет вас понимать, чувствовать и любить. И люди это сразу почувствуют. Чувства людей обмануть очень сложно. Все понимают, чем отличается любящий от того, кто просто "умный". "Умный Город", к примеру.Чувства работают с происходящим (видимым), а интуиция работает с произошедшим (увиденным) или с бессознательным опытом.
- Мозг - это система по управлению смыслами событий
Для того, чтобы понять смысл книги, не обязательно знать материал, на котором она находится. Будь то бумага, магнитная лента или флешка. Ни суть, ни содержание не меняется от этого нисколько.Это к работам уважаемых учёных - нейробиологов, занимающихся изучением мозга.Достаточно понять принципы работы мозга и сознания в нём, чтобы всё получилось.Мозг - это система по управлению смыслами событий, а не изучение свойств материала носителя сознания. А сознание - это смысл происходящего.
- Построение картины мира необходимо для понимания и выживания
Построение картины мира свойственно всем животным и людям. Это необходимо для понимания, как выживания. А интеллект, как способность оперировать абстрактными понятиями (числа, слова, знаки) может быть у человека на этой основе. Впрочем, его может и не быть. Если не обучить умению говорить и думать словами и не социализировать. Правда, тогда и человека в нём тоже не будет.
- в основе деятельности мозга - автоколебательные процессы в комплексах сетей
Наш мозг живёт очень мало, но очень интенсивно. В основе его деятельности лежат автоколебательные процессы в комплексах , состоящих из нейронных и капиллярных сетей. Для визуального ознакомления с логикой этих процессов идеально подходят реакция Белоусова-Жаботинского в чашке Петри. Иначе понять, что проиходит в нашем мозге, довольно сложно.В реакции Белоусова-Жаботинского в среде больших объемов окислителя и восстановителя в присутствии катализатора и обычно красителя в результате реакции окисления возникают ингибиторы реакции. которые почти полностью останавливают реакцию, но сами тоже в ней расходуются, давая дорогу новому циклу. В результате , в чашке Петри возникают циклические структуры, похохожие на расходящиеся на воде круги от падения камня. Круги имеют свою частоту. Таких " камней", возникающих спонтанно, в чашке Петри множество, но если под одним из них "подогреть" среду и увеличить частоту исходящих от него колебаний, то именно этот "камень" ( его называют ведущим центром) постепенно захватит весь реакционный объем.Именно так, мне кажется, в юном мозге возникает сознание , то есть единоначалие, когда из одной точки в мозге осуществляется контроль над всеми остальными его частями."Плясать" перспективней от этой приземленной гипотезы .Далее, нужно учитывать вовлеченность юного мозга в потоки информации извне, где он оказывается встроенным в более высокие уровни иерархии сложности. Кем он там будет: ведомым или лидером, по большому счёту, большой вопрос. А "чувства", "интуиция", и пр - это програмные надстройки, помогающие нам находить свое место в обществе.
- сознание не в нейронах, а в информационной среде мозга
Не так важны процессы, происходящие в мозгу и нейронах, поскольку сознание не в них (потому его не могут найти учёные - нейробиологи), а в информационной среде мозга. А нейроны обладают свойствами, позволяющими эту среду создавать. Но изучение свойств нейронов - это всё равно, что изучение свойств красок картины, не понимая её смысла.Сознание - это чувство и это смысл происходящего. Что в свою очередь позволяет довольно простыми средствами получить сознание на компьютере при помощи программных средств. Это было не только понято, но и сделано.Aleksandr Kolotygin Вы идеализируете сознание.) Ученые нейробиологи соседней с моей кафедрой потому и не могут найти в нейронах сознание, потому что оно не в них, как Вы правильно заметили, а в некой информационной среде. А что это за среда? Это среда откуда-то растёт.Скорее всего растёт она из одного строго уникального места в каждом мозге, которое является родиной победившего в результате эволюции между себе подобными в этом мозге автоколебательного процесса.Звучит сурово, но только так можно избавиться от ничего не значащих слов типа " Сознание - это чувство и это смысл происходящего". ...Синергия, однако здесь, видимо, описана.Сознание - это система контроля за интеллектом и интуицией. Система, как единство и борьба противоположностей. Они постоянно конфликтуют, такова их природа. Сознание (самосознание - оборотная сторона медали) не может себя не контролировать, в этом его смысл. Суть сознания - наиболее эффективное выживание в конкурентной среде. Это природная закономерность, а не идеализация её кем-либо.
- мы доверяем своим чувствам без их определения
Вы своим чувствам доверяете? Зрению, слуху, сознанию, чувству равновесия и мн. другим? Или не доверяете из -за "отсутствия внятного определения"?Вы человека в сознании, что тоже чувство, сумеете отличить от находящегося в бессознательном состоянии, без строгих определений и серьёзных учёных?А все люди это делают легко и просто всего лишь своими чувствами и здравым смыслом. Что есть логика +опыт.Своим чувствам я доверяю не всегда (но не из-за отсутствия определений), поскольку помимо чувств ("сердце") имеет место еще и "разум"
 . Вам когда-нибудь доводилось видеть мираж или слышать слуховую галлюционацию?Вы забыли упомянуть ещё про когнитивные расстройства, начинающиеся обычно после сорока лет. В самом начале они почти незаметны, по счастью. Но со временем именно они делают невозможной нашу жизнь быть полноценной.Что поделать, когда таков порядок вещей?
. Вам когда-нибудь доводилось видеть мираж или слышать слуховую галлюционацию?Вы забыли упомянуть ещё про когнитивные расстройства, начинающиеся обычно после сорока лет. В самом начале они почти незаметны, по счастью. Но со временем именно они делают невозможной нашу жизнь быть полноценной.Что поделать, когда таков порядок вещей? - ТИПЫ СОЗНАНИЯ (3)
- Первичное `псевдосознание` (биологическое `осознание`)
Первичное `псевдосознание` (биологическое `осознание`):базируется на лимбической системе. Есть у рептилий, животных, приматов.Это самое древнее `псевдосознание` (биологическое `осознание`), которое формировалось в процессе эволюции видов на протяжении сотен миллионов лет.
- Определяет форму гормонально-инстинктивного, неосознаваемого поведения
Определяет форму гормонально-инстинктивного, неосознаваемого поведения - пищевого, (репродуктивного - у различных видов организмов, начинается с разного возраста), доминантного.Обладатели только `псевдосознания` (биологического `осознания`), педагогической обработке поддаются с большим трудом, или вообще не поддаются, т.к. неокортекс не достаточно сформирован для нормального функционирования.
- Является основным для человеческих детей в возрасте до 7-9 лет
(Является основным для человеческих детей в возрасте до 7-9 лет (, так как формирование неокортекса, к этому возрасту, выходит только на начальный уровень функционирования), и, в дальнейшем, влияние первичного `псевдосознания` (биологического `осознания`) на поведение человека зависит от окружающих его процессов в семье и социуме, а также от степени развития его вторичного и третичного сознания).
- В социуме проявляются своими производными разновидностями
В социуме же, проявляются их производные разновидности: обман, манипуляции, мошенничество, тщеславие, гордыня, нарциссизм, власть, насилие, рабовладение, конкуренция в любых проявлениях, деньги (сребролюбие), жадность, различные страсти, демонстрация высокого уровеня потребления товаров и услуг с целью вызывать зависть у окружения, ...
- Молящиеся на материальный успех - разрушают свою социализированную личность
(Если кто-то `молится` на материальный успех, деньги, ..., то, это значит, что он `молится` на реализацию каких-то своих биологических (или `животных`) потребностей, что во многих религиозных учениях принято приравнивать к негативным процессам саморазрушения социализированной личности).
- Определяет форму гормонально-инстинктивного, неосознаваемого поведения
- Вторичное сознание
Вторичное сознание:базируется на определённых полях неокортекса, в частности, на развитых ассоциативных областях мозга.В процессе жизнедеятельности человека, в ассоциативных областях мозга формируются социальные инстинкты.Вторичное сознание присутствует у людей и характеризуется рассудочным логическим (дедуктивным) мышлением (тип - адаптирующийся к условиям существования `функционер`, социализированный конформист, обладающий развитыми социальными инстинктами).Может применяться для добычи различных материальных и нематериальных благ, в первую очередь тех, которых требует его лимбическая система (в социуме, эти требования трансформируется в производные: деньги, власть, сотрудничество для последующей выгоды, ... ), а внутренним подкреплением воображаемого или реального успеха, служит вознаграждение, в виде выделения определённых эндогенных веществ.Имиджевое потребление, имитирующее собственное величие, не является собственно творческой деятельностью.Часто, для достижения этих целей, честными и не очень путями, применяются различные манипуляции общественным мнением.Главное занятие `Функционеров` - усиление своей доминанты в социуме, а для этого им необходим постоянный рост собственной карьеры и карьеры своих потомков, накопление материальных средств, демонстрация высокого уровеня потребления, демонстрация своей важности и уровня достигнутой власти, наработка `нужных` служебных и социальных связей, конкурентная борьба за блага, обязательная организация отдыха от `непосильных` трудов, и, несмотря на такой уровень занятости, времени и способностей хватает ещё и на имитацию бурной служебной деятельности. В случае отсутствия контроля, по какой-либо причине, со стороны социума за их имитационной деятельностью, `функционеры` стремятся к созданию `наследственно-бюрократического феодализма`, что искусственно продлевает их доминантность в социуме на неопределённое время.`Функционеры` - `мастера` в области социальных инстинктов, а также в имитации процессов творчества, используя для этого комбинаторику посторонних идей и технологий (такая же комбинаторика используется в играх, например, в: шахматах, шашках, нардах, го и подобных).Будучи неспособными создавать что-то действительно новое, они пытаются занимаются лицензионным или нелицензионным копированием чужих разработок - реверс-инжинирингом , выдавая результаты за `сверхновые` инновации.
- Третичное сознание
Третичное сознание:базируется на определённых, увеличенных в размере полях неокортекса, обладающих повышенной степенью изменчивости (активное и частое изменение большого количества нейронных связей в определённых увеличенных полях неокортекса, является признаком склонности к гениальности в какой-либо сфере человеческой деятельности - способностью к произвольному мышлению).Длительный эволюционный выбор, определил приоритетную задачу работы мозга - это поддерживать функционирование только лимбической системы мозга, так как её функционирование энергетически более выгодно (занимает только 10% объёма мозга), чем энергозатратная работа неокортекса, и обеспечивает так необходимую и стабильную биологическую/животную/инстинктивную/бессознательную жизнедеятельность организма.Поэтому, обладатели третичного сознания, получают различные эндогенные вещества от лимбической системы, чтобы клетки неокортекса не были активными (`были счастливы, ушли в отпуск, стали ленивыми и отдыхали от работы`) и не производили очень энергозатратную рассудочную (дедуктивную) и творческую (индуктивную, `наводящую`) деятельность при решении не биологических задач.Но, каким-то странным образом (своеобразный `обман` лимбической системы, через `отвлечение` на работу моторных, обонятельных, осязательных или слуховых центров неокортекса), у обладателей третичного сознания, определённые поля неокортекса не `отключаются` (не деактивируются) от избытка `счастья`, и, находясь в состоянии `эйфории`, продолжают рассудочную (дедуктиную) и творческую (индуктивную, `наводящую`) деятельность, при решении не биологических задач.В этом состоянии `радости, счастья, творческой эйфории и потери чувства времени` в ассоциативных областях неокортекса возникают как промежуточные результаты, так и генерируются окончательные идеи, которых ещё не было в человеческом обществе или в природе.Гиперспециализация отдельных отделов головного мозга, отвечающих за различные виды `гениальности`, представляют собой структуры, где гормонально-инстинктивное, неосознаваемое поведение, порождаемое лимбической системой - гасится, но состояние `радости, счастья, творческой эйфории и потери чувства времени` сохраняется.Достигается такой эффект процессами сознательного торможения животных (`бабуиновых`) инстинктов, в ассоциативных областях мозга.Ассоциативные области неокортекса могут `отвлекаться` и растормаживаться, для поддержания мотивации заниматься произвольным мышлением, если моторные области мозга интенсивно работают в фоновом режиме, и, также, их работа `отвлекает` лимбическую систему от выполнения 3-х основных биологических потребностей (желаний).В связи с такой, количественно большой и частой изменчивостью архитектуры нейронных связей, колебаний настроения из-за `пресыщения эндорфинов и других эндогенных веществ`, и, наоборот, `недостатка эндорфинов и других эндогенных веществ`, у `гениев` возможна структурная предрасположенность конструкции мозга к неустойчивой психике, эксцентричным выходкам.Третичное сознание характеризуется произвольным (индуктивным, `наводящим`) типом мышления, и эти люди способны создавать идеи, которых ещё не было в человеческом обществе или в природе.А вот признание и реализация новых идей в социуме, часто испытывает трудности....
- Первичное `псевдосознание` (биологическое `осознание`)
- выход на алгоритмы понимания мозга
- О ТЕКСТЕ СТАТЬИ (3)
- повторяемость фраз - признак попытки создать секту
когда одну и ту же фразу прочитал 5-й раз, прервал чтение. Типичная попытка создать секту.
- текст больше напоминает манифест, чем строгое научное изложение
Текст использует эффектный, но малодоказательный стиль подачи информации. Он опирается на громкие имена, туманные термины и философские обобщения, но не предлагает конкретных математических моделей, которые подтверждали бы заявленные принципы. В результате он больше напоминает манифест, чем строгое научное изложение.
- удивительно, что текст кто-то понимает
вообще удивительно - что есть люди, которые понимают этот текстлюди разные, и это разнообразие - самый ценный ресурс человечества -
- повторяемость фраз - признак попытки создать секту
- РАЗНОЕ (2)
- социальное учение о самоуправлении высшей формой которого является община
Россиянам и был в 2018 году ниспослан неуязвимый НовейШий Завет как социальное учение о самоуправлении высшей формой которого является община с правами юридического лица, позволяющими открывать предприятия с коллективной формой собственности, освобождённые от уплаты НДС, правом законодательной инициативы и электронным голосованием на блокчейне, которая будет механизмом прямой демократии и динамического равновесия между сытыми и голодными и колыбелью гражданского общества, способного противостоять диктатуре над нами и эгоизму внутри нас.НовейШий Завет, это не про то "Кто виноват?", а про то "Что делать, и, главное, Как?".Возродить Россию чтоб, надо запустить флешмоб.Прост Спасения секрет: НовейШий репости Завет!
- человек копирует бога в своем техническом "выпендреже"
Человек это духовно-математический код, написанный небесным программистам...А если внимательно проанализировать технический прогресс - человек копирует бога в своем техническом "выпендреже"...Детские игры весь этот трансгуманизм.
- социальное учение о самоуправлении высшей формой которого является община
- Биоматематика - первобытный язык мозга
КОНТИНУАЛЬНАЯ ЛОГИКА (СБОРКА) (55)
- НАСЛЕДИЕ БИНАРНОЙ ЛОГИКИ (6)
- разделение общества ведет к его разрушению
Множество бед постигло человечество из-за внедрения в его сознание бинарного мышления.Люди, разделенные на:
- "друзей" и "врагов" — воюют;
- "правых" и "неправых" — спорят,
- "ваших" и "наших" — конкурируют
- и так далее
Так общество оказывается разделенным на множество различных групп и группировок."Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" Мф 12:25Вот у людей и получился этот Дом, который в себе разделён. - разделение на порядок и согласие — от бинарной логики
Люди, которые хотят Порядка, не способны жить в Согласии.
- Порядок - принуждение
. Согласие - договорПочему порядок - принуждение? Разве невозможен порядок при согласии?Порядок — это не принуждение, а результат создания системы, где все "разложено по рядам, по полочкам, по пунктикам.А это возможно?Развитие любого живого организма (аутопоэзис) — пример построения такой системы.Самые разные органы работают согласовано в одном организме.Рост кристала в растворе — еще один пример..Всё бывает:
- и принуждение к миру;
Так не бывает. Война просто переходит в другую форму.
- и согласие с порядком.
Согласие не обязательно договор — согласием может быть негласноепонимание и самостоятельное нахождения своего места в достижении единой цели.без договариванияПример: муравьи тащат сосиску - и принуждение к миру;
- Порядок - диктатура. Согласие - либерализм.
- Порядок - пустые головы люмпенов. Согласие - просвещенное сознание порядочных людей...
"Согласие - просвещенное сознание порядочных людей..." (с) - т.е. "сначала всё же стали порядочными (это "люмпены с пустыми головами" которые "хотят порядка") (с) - а уже после решили стать просвещёнными для Согласия с либерализмом, но "жить в нём не способны" (с) ?
- бинарная логика — причина кризисов и войн
Сейчас нет в стране ни ПОРЯДКА, ни СОГЛАСИЯ, а люди ЖИВУТ (значит способны жить). Это все проявление БИНАРНОЙ логики и соответствующего мышления (ИЛИ - ИЛИ, однозначность, исключительность), отсюда кризисы и войны.Интегральной ОД — пример применения КОНТИНУАЛЬНОЙ логики (И-И, многозначность, дополнительность), способ прекращения кризисов и войн.Причинакризисов и войн - накопление материальных и управленческих решений. Логика - которая присутствовала при их накоплении, по ходу меняется в более простую, естественную. Как правило - более дикую и архаичную для мирных цивилизаций.Скорее, одна из предпосылок. Накопление не приводит к войне, а вот неравенство, большой разрыв между богатыми и бедными вполне может войну вызвать."Мир хижинам, война дворцам"
- те, кто нуждается в порядке — наводят порядок
Люди, желающие порядка, наводят ПОРЯДОК вначале в своей голове.Да, "хотящие" не способны, а нуждающиеся — способны.А откуда появляются люди, которые вышли из классической парадигмы?
- Порядок - принуждение
- не крайности, а континуальное мышление
Никто не может заявлять свое исключительное право отделять правду от лжи.У нас (на ПЗ) нет сравнения, нет разделения на крайности правда/ложь (вместо бинарного мышления — континуальное).
- может ли быть истина без лжи?
Точно так же у Вас никаких оснований утверждать что-либо о нахождении истины. Так как истина и ложь - это тоже бинарные понятия.Это только в бинарной логике, в континуальной — истина ИНТЕГРАЛЬНАЯ И СЛОЖНАЯ, а правды и лжи нет вообще (нет сравнения).
- Логике Аристотеля пора на заслуженный отдых
Предстоит отказаться от привычной логики Аристотеля, в основе которой лежит процедура выбора «вектора цели» путём построения «древа цели». Задача управленца в этом случае сводится к определению главного ствола этого «дерева» и отсечению боковых веток, «отвлекающих от главного направления». Более 2000 лет эта логика весьма эффективно использовалась для управления обществом, государствами и его структурами, в том числе науками и научными сообществами.Но любым авторитетам, даже древним грекам, рано или поздно приходится «уходить на заслуженный отдых».
- От «компаса Аристотеля» к «камертону ризомы»
Сегодня «компас Аристотеля» должен быть заменён на «камертон ризомы». Новому управленцу, как путнику в поисках оптимального пути, теперь надо «звучание своих шагов» периодически проверять на фальшь с помощью камертона – источника идеально правильных, калиброванных звуков. Примерно по такой схеме работает сапёр с миноискателем.
- разделение общества ведет к его разрушению
- КОНТИНУАЛЬНАЯ ЛОГИКА И МЫШЛЕНИЕ (20)
- О КОНТИНУАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ (7)
- континуальная сложность видения "Общего Слона"
"Слон" в 4D - видение целостное, но не только поверхностное - степень его подробности - континуум значений от верхнего уровня (поверхность) до самого полного (всего объема информации), каждый пользователь добавляет к этому разнообразию индивидуальность маршрута прочтения плюс индивидуальность своего восприятия.Т.е полное число возможных значений сравнимо с количеством нейронов мозга (ок 100 млрд.).Таким образом мы преодолеваем ограничение (бинарность и примитивность логики),Из-за примитивностьи мышления человечество Земли не приняли в межгалактическую ассоциацию разумных существ (Третье ультимативное послание человечеству). )Все усложняют множество простых и разных ответов разных авторов, порождающих войну всех со всеми.Единый сложный ответ, включающий все мнения авторов, исключает споры.А для каждого пользователя - ответ индивидуальный и простой.См. 4D-ответы (описаний мало - прочтений много)
- индивидуальное получение ответа
Свой личный ответ надо найти самому, пройдя по цепочке (в соответствии с личными интересами). Однозначного ответа для всех там, действительно, нет - ведь каждого интересует свое.В библиотеке много книг, но каждый берет разные.Поэтому, мы создаем сначала 3D визуализацию, а потом - еще ведем протокол метаданных на блокчейне..
В критике 2D бюрократии, как сообщества, которые за своим общественным предназначением пишут нашу "новую библию", это явление обозначается сменой визуализации, от 2D продуктов к 3D визуализациям.Применение параметра t ставит в некоторую зависимость от предшедственниковПрименение параметра t немного нас ставит в зависимость восприятия "класических дисциплин", которые свои поправки строят именно на рассмотрении формул, зависимости классических локаций от новых локаций во времени, чем еще больше удаляют нас от реальности...На практике параметр t почти никогда не применяется. Он используется для исправления ошибоки для спокойствия тех, кто боиться необратимых действий модераторов.Например, нечаяное удаление блипа. - индивидуальное получение ответа
- разные места сетевого "поля" для КМ
Континуальное мышление, как я думаю, относится к понятию "сетевого", имеющего безграничное поле взаимодействия.Мы интуитивно понимаем "сеть" - как такое безграничное поле взаимодействия, - континуальное. Хотя - так же интуитивно понимаем, что в сети есть множество разных мест - топов, сайтов, "ресурсов", ..., - где сосредотачиваются разные группы - по интересам и чего-то там "информируют".Одним из таких мест является группа "Кайрос" в ФБ. Другим местом, о котором здесь - в этом месте часто упоминается, - это "Риззома".Но, так же интуитивно (не фиксированно - континуально) ощущается и разница между разными местами: - каждое имеет какие-то свои особые возможности и ограничения.Хотя в разговорах приговаривается, что там, или там возможностей больше/меньше и ограничений меньше/больше.Но вот это - "больше/ меньше", или "меньше/больше" не проясняет: - а какие именно возможности/ограничения нам необходимы в том, или ином конкретном случае; и - следовательно - как эти возможности/ограничения мы можем реализовать?
- КМ в отличие от дискретного не имеет пробелов
И если сравнивать с математикой, т.е. с дискретным образом мышления, то континуум — это множество действительных чисел, которое не имеет "пробелов".
- НЕСРАВНИМОСТЬ людей между собой
Иисус учил: "Не судите!" — континуальность определяет людей как НЕСРАВНИМЫХ между собой.(без разделения на праведных и грешников ("кто из вас без греха...") )При КОНТИНУАЛЬНОМ мышление вместо ДА/НЕТ — спектры, которые не сравниваются между собой.
- надо демонстрировать и само мышление, и его результат
Проблема еще заключается в том, что мышление возможно объяснять и описывать ТОЛЬКО в сочетании с его (описываемого мышления) демонстрацией, причем - и действительной демонстрацией и демонстрацией результатов. Иначе - это все не понятно и не убедительно.мышление можно пытаться объяснять, но пока это никто не смог сделать, некоторые считают, что это невозможно, не выходя за пределы нашего мира.К счастью, для того, чтобы что-то сделать — объяснять это не обязательно. Мастер может нарисовать гениальную картину, но не может ОБЪЯСНИТЬ, КАК это у него получается.То, что Вы не можете объяснить, вовсе не означает, что это не могут другие. Больше того, даже если никто не смог это сделать, еще не означает, что это никому не удастся в будущем.Но если бы Вы были знакомы с историей, то смогли бы обнаружить, что, оказывается, это уже удавалось многим - тем, кто мышление создавал и развивал.Поэтому, мы вполне можем создать РАЗУМНЫЙ Коллективный субъект, не объясняя, как у нас это получилось.
- Мышление - социально. В отдельно взятом мозге оно не живет
Мышление - социально. В отдельно взятом мозге оно не живет. Кроме того, ему нужна техногенная среда как обязательный элемент развитияСейчас социальное мышление живет и развивается в Коллективном Разуме социума
- ризоматическая логика и противоречия
В ризоматитической логике много противоречий, можно сказать, вся она состоит из противоречий – в этом её суть. Это оружие обоюдоострое. Сначала оно порождает или, точнее, обнажает проблемные ситуации, а потом решительно их рассекает и решает…
- континуальная сложность видения "Общего Слона"
- ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ (8)
- континуальное мышление отражает философскую концепцию континуума
Именно континуальное мышление можно рассматривать как способ мышления, который отражает философскую концепцию континуума, применяя её к различным аспектам познания и понимания мира.
- "Пространство согласия" и Ризома Жиля Делеза
Ваш Проект:...Пространство согласия — международный проект, выстраивающий единоесетевое коммуникативное, когнитивное и проектно-деятельностное пространство в форме Коллективного разума...,и концепция:...Ризома ( «корневище» ) — один из важнейших и самых известных концептов в философии Жиля Делеза .Разработан главным образом в произведениях, написанных в соавторстве с психологом и психиатром Феликсом Гваттари и призван служить основой и формой реализации «номадологического проекта» этих авторов.Ризома должна противостоять неизменным линейным структурам (как бытию, так и мышлению),которые, по их мнению, типичны для классической европейской культуры...видимо, несут позитивные, благие начала.
- почему употребляем слово "логика"
Сергей Жигинас какие тогда основания называть это логикой?строго - "Логика" только одна (Аристотеля), остальные (коих сотни) правильно было бы называть логиями, но для этого прижилось слово "логики".А вообще в работе КР, как и в природе, не слишком озабочены тем, как что называть: см.
- О работе с терминами (ДС)
- троичная логика
Есть объективный механизм лежащий в основе образования родов русского языка. Мужской и женский, как противоположенное "то-другое"; Средний род "не то и не другое", а ещё есть общий род "и то и другое". Принимаем данный объективный инструмент на вооружение и описываем с его помощью всю окружающую реальность. То есть принимаем закон-аксиому: "Всё всегда и везде имеет три варианта, а именно два противоположных конца и одну их связующую "золотую середину", которая либо в себя включает, либо исключает обе противоположности одновременно!"Теоретически это механизм образования парадоксов в бинарной логике, а практически это объективный закон.Примеры проявления...Примеры проявления...
- Классический пример проявления цифра/знак "ноль". На вопрос: "Ноль" является положительным числом или отрицательным? Нельзя ответить чисто логически так как "ноль" не является ни положительным, ни отрицательным, а и положительным и отрицательным одновременно!
- В мире природы данным свойством обладает магнит, то есть он и положителен и отрицателен одновременно (и притягивает и отталкивает).
- При голосовании мы так же используем троичный алгоритм "За/Против", но есть и "воздержался" то есть буквально в-"О"-сдержался (в середине остался).
- Между "да и нет" существует возможно, а можно в "Оз"? (Остаться в равновесии)
- "Правда", "ложь" и "истина"
Есть правда и ей противоположна ложь. А ещё есть термин "Истина". В двоичном мышлении куда её деть? Приравнять к правде и против-О-поставить лжи! Но, это не выход так как в этом случае истина не проявляет своего отличительного свойства "неизменности" и наш закон не работает.Для того, что бы не резать слух предлагаю заменить слово "истина", на слово "Верно". Это же логично?Верная "правда" это верно? Верно! А верная "ложь" это верно? Верно!Возвращаем термин и анализируем полученное:Вся правда является лишь частью истины, так как её вторую часть занимает ложь! Тут не следует сразу воспринимать данное утверждение в штыки (следовать бинарной логике) так как следствие из объективного (троичного) алгоритма открывающее ещё одну грань восприятия.
- Самое сложное правильно-не правильно. Где здесь третий вариант? Его нет! А следовательно нам придётся его ввести!
Можно знать и изучать только как правильно. Из многообразия верных вариантов всегда можно найти правильный и оптимальный. В этом случае теория имеет доминирующее значение. Но ведь на ошибках тоже учатся. Следовательно, можно знать только как «неправильно» и стараться не допускать (методом исключения) повторения ошибок. В этом случае практика имеет решающее значение. Но вот чтобы поступить «так как должно быть», нужно совместить в себе одновременно и знание и опыт!? Только в этом случае человек способен поступить так, «как должно быть» включить "объёмное мышление" и стать мастером своего дела.
- Жизнь это "золотая середина" между рождением и смертью и включающая их в себе одновременно!?
- "Я" является одновременно Альфой и О-Мегой
Сам человек, как личность "Я" является одновременно Альфой и О-Мегой. Он содержит в себе животное начало, то есть ум (низшее) стремящийся стать Разумом (высшее) на основе шаблона установленной в природе вертикальной иерархии и с-О-знание в пра-образе знание/свойство полученное от мировой О-Меги (духовное) стремящееся к балансу и равновесию системы без различия и крайностей.
- Любовь это слияние двух против-О-положностей в некой "золотой середине" и включающей в себе обе противоположности одновременно...
Объективно третье существуетЯ могу очень долго описывать этот объективный и пока лишь виртуально действующий теоретический закон. В частности, на его основе есть возможность выдать теорему образования Вселенной и объяснить словообразование доступного мне русского языка...Аналогов нет! Опровержение невозможно, так как это знание не находится в рамках установленного логического мышления, Но, разумное человечество, конечно, и далее может отказываться принимать/расширять свои ранее уже установленные рамочные "убеждения".Но, в любом случае, Вам следует принять во внимание, что в нашем мире уже есть и прекрасно существует объективное третье - "как должно быть". Ранее это "понимание" передавалось термином "Logos" - слово, мысль, Разум, закон. И оно в виде условной "золотой середины" обеспечивало порядок и гармонию всего окружающего мироустройства.Пару тысячелетий назад это было утеряноПри плановом переходе, пару тысячелетий назад, с этого весьма громоздкого в прикладном применении образного до-логического мышления на аналитический алгоритм формальную логику была утеряна причинно-следственная связь, а вместе с ней и сам главный и основной смысл всего происходящего процесса.Как следствие мы имеем лишь то, что имеем а именно вечно конфликтующие между собой сообщества не способные придти к необходимому пониманию закона первопричины... - оперирование целым и континуальностью
- определения динамических систем
динамічними можуть бути лише системи, в яких за одиницю виміру часу будь-якийпараметр систми змінюєтьсямабуть замість "будь-який" треба "деякі"тому, поки ви передаєте в систмі дані певного параметру - він з часом змінюється
- не надо спорить о терминах
Андрей Худотеплый Давайте различать термины:
- Есть процесс, который называется "гармонизацией". Это не договор,
- договор - это результат, а не процесс.
- Процесс создания договора - это переговоры.
Давайте не подменять реальные вещи терминами и устраивать "битвы терминов". Мы получаем НЕЧТО, что нас соединяет, а дальше можем назвать это любым существующим словом или придумать новое.В сетевых исследованиях мы получаем Единое (4D) понимания терминовВ многочисленных сетевых исследованиях мы НЕ СВОДИМ ТЕРМИНЫ и это не мешает, а помогает получать результаты.Параллельно выстраивается 4D-термин, соединяющий воединовсе понимания данного термина участниками.Очень важный момент составления коллективного понимания. "Соединять все воедино" - это как? Думаю это процесс гармонизации описания исследуемого объекта.Объект должен иметь: - условную классификацию по уровням восприятия; - существенные качественные отличия в своей группе; - критерии сортировки, соединения в одну группу или выделение другой...Разработка алгоритма классификации понятий и пониманий это очень нужная и интересная штука. Здается мне, что за созданием реестра понятий и пониманий прячется "таблица Менделеева", котрая может вывести нас на метод определения пониманий.способы описания объекта могут быть как алгоритмическими, так и естественными (природными), как бинарными (категориальными, детерминированными), так и континуальными (гуманитарными), как цифровыми так и аналоговыми.- Вместо Да/Нет — СПЕКТР
- СПЕКТРЫ — многомерны и несравнимы между собой
как гиперкомплексные числа или произведения искусства
- есть ли собственные средства континуального мышления
И, конечно, относительно наличия мышления - тоже. Ведь, если допустить некое особое мышление, которое оперирует некими собственными средствами (иструментами) и методами, то, как минимум, эти средства и методы необходимо иметь и уметь ими пользоваться.Так как Вы их не используете, а ссылаетесь на традиционные (бинарные) средства и методы - "истина", "факт", ..., то, вероятно, либо их у Вас просто нет, либо Вы не можете ими воспользоваться.Я не могу использовать новые понятия в разговоре с теми, кто их не понимает. Я вынужден пользоваться старыми понятиями вместе с их отрицаниями (парадокс) чтобы быть понятым хоть как-то (метафорически).То есть, чтобы продемонстрировать - как работает гаджет, Вы используете морзянку, и рассчитываете, что кто-то Вас поймет?
- континуальное мышление отражает философскую концепцию континуума
- О КОНТИНУАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ (7)
- ЖИЗНЬ КОНТИНУАЛЬНА (6)
- континуальное мышление изначально присуще человечеству
В сознании у каждого человека уже есть весь СПЕКТР — ответ на поставленный вопроси он им пользуется, он не делит это всё это на какие-то отдельные параметры.Вопрос: хороший человек или плохой можно я разбить на 28 параметров: как он по красоте, как по общению, и так далее. Если каждому из 28 параметров дать численное значение — это и получится вот такая кривая (СПЕКТР) .На этом же принципе устроены аналоговые машины.У меня был курс аналоговых вычислительных машин — если надо что-то там проинтегрировать, дифференцирования, не надо было писать эти формулы — это были физические процессы в аналоговой машине, был модуль для интегрирования, дифференциация, соответствует тому что нужно. Достаточно было ввести параметры и получить сразу результат.Сейчас уже начинают отказываться от диаграм и графиков в пользу текста.Большая фирма (типа Amazon) — там на планерках отказались от PowerPoint — приходят на планёрку, садятся и читают текст 30 минут потом приступают к планёрке.Вот и получается что речь идет об изменение мышления человека, точнее, о восстановление нормального мышления человека, так скоро до 4D-текстовдойдут.В 4D-текстах ты можешь нырнуть в глубину. В гипертексте ты не обязательно в глубину ныряешь — просто заходишь в соседнюю комнату, Переход на следующий уровень — все равно, что сесть в самолет и подняться в небо — это другое измерение, это не соседняя комната.Это как в компьютерных играх, ты заходишь в следующий уровень — и там всё по-другому, там не так как здесь. Но по текущему уровню ты бродишь как муравей на плоскости.Когда ты заходишь вглубину, это действительно глубина То есть, там и люди другие — с другим уровнем мышления.Это как в компьютерных играх, ты заходишь в следующий уровень — и там всё по-другому, там не так как здесь. Но по текущему уровню ты бродишь как муравей на плоскости.Выход на следующий уровень в 4D-тексте — может быть переходом на следующий уровень интеллекта и понимания, а может просто открыть дополнительные деталиТо есть (условно):
- 1-й уровень — это публика;
- 2-й уровень — это специалисты
- 3-й уровень — это ученые
.Погружение на следующий уровень может открыть и дополнительные подробности на том же уровне понимания.Кроме того этот текст "живой", он разворачивается во времени, и более того, в этом "фильме" я могу посмотреть, как он снимался, то есть, я могу вернуться в прошлое и в любой позиции посмотреть, что там было год назад, или проследить по шагам, как этот ребёнок рос.Да, у Тихоплавов в "Физике веры" - это "глаз исследователя". - жизнь — континуальная штука
Эти, на первый взгляд, однообразные процедуры и практики заполняют всю нашу жизнь, их компоненты, элементарные блоки, частицы (в лексиконе физики слабых взаимодействий), взаимодействуя и дополняя друг друга, образуют сложнейшие структуры - как молекулы, образующие спирали ДНК.Эти элементарные, базисные блоки не аддитивны, более того - при каждой новой реализации они обладают новыми свойствами - в зависимости от контекста, в зависимости от характеристик соседей. Жизнь - квантовая, континуальная штука. Жизнь не дискретна. В этом ее творческий смысл - "одно и то же" всякий раз оборачивается новым, все случается первый раз.
- жизнь и хаос
Вынужден признаться в заблуждении - называя жизнь упорядоченным неизвестным нам образом хаосом.С уважением, Доктор Хаос.О жизни и хаосе см. Дорога в хаосе
- живая система КРс создала для себя КЛ
- нет операций сравнения (нет ни равенств, ни неравенств, ни больше, ни меньше;
- нет количеств
- нет точных определений;
- нет однозначных ответов на один вопрос
це не математикаТак, коли заходять нові поняття, дуже важко з термінами: якщо використовуєш старі - розуміють неправильно, якщо використовуєш нові - не розуміють зовсім.Але є добра новина: щоб рухатись вперед нам не треба термінів, понять, означень (як воно завжди і буває в житті) -- О работе с терминами (ДС)
виявилось, для рішення наших СПІЛЬНИХ проблем нам не дуже потрібно і розуміти один одного (як би це не здавалося дивним): - тренд Новейшего времени — №3. от БИНАРНОСТИ к КОНТИНУАЛЬНОСТИ
В обществе идут одновременно миллионы процессов, которые сплетаются друг с другом самым причудливым образом, см: тренды новейшего времени 1.СЛОЖНОСТЬ вместо ПРОСТОТЫАнатолий Мина процесс обездуховливания обществане сложен и не прост, он опасен и несёт угрозу существованию человечества.Анатолий Мина сатанизм пронизывает все вышеперечисленные особенности, а в будущем его активное проникновение в души людей ещё усилится.Это не единственный процесс, и не определяющий, и неоднородный, и нелинейный.Иисус учил: "Не судите!" — континуальность определяет людей как НЕСРАВНИМЫХ между собой (без разделения на праведных и грешников ("кто из вас без греха...") )
- совмещение позиций в направлениях смены трендов
Севастьян Колій Я б говорив про суміщення різних позицій по кожному з пунктів.Тобто не "замість" ("вместо"), а "разом із" ("вместе с"). Кожна позиція не заперечує свою опозицію, особливо коли ви сам у п.3 встановлюєте континуальність, тільки не замість, а разом із бінарністю і в п.2 додатковість разом із виключністю.п.2 и п.3 обеспечивают ВСЕ виды совместимости, а заголовок поста — НАПРАВЛЕНИЯ.было ОСОБЕННОСТИБудущее не заменяет настоящее, а прорастает в нем, как мобильные телефоны проросли среди проводных (т.е. прежнее никто не отменяет).Пункты переформулированы на "Направления смены трендов" — "от ... к ..."
- интеллектуальная сеть, практикующая мысление Иного
== інтелектуальна мережа, яка практикує мислення інакшого ==когнитивна мережа, яка практикує Інтегральне мислення без обмежень (і важливого, і потрібного, і інакшого, і актуального), що з’єднує мислення не лише інтелектуалів, а мислення всіх видів, різних людей всіх рівнів інтелекту. Відбувається вихід на перший план КОНТИНУАЛЬНОГО мислення на відміну від бінарного.
- не утратить методы знаковых систем
Люди 6-8 тысяч лет старались избавиться от континуальности, детей с малолетства учат оперировать со словами, числами, рисункамиСобственно, то, что сейчас называют "континуальным мышлением", возникло и распространяется благодаря техническому прогрессу за последние чуть более ста лет. Если считать от братьев Люмьер.Ситуация заключается в том, что последние ориентировочно 6-8 тысяч лет люди изобретали средства избавиться от континуальных представлений. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки.За это время люди изобрели множество средств и методов оперирования с не-континуальными, фиксированными представлениями и объектами. Ну не получается пока ни у кого оседлать скачущую галопом лошадь. Ее приходится сначала как-то остановить и зафиксировать.. Для малограмотного народа континуальное мышление важно, как кино и циркПри этом возник очевидный разрыв между континуальным чувственным восприятием и решением практических (в том числе - и мыслительных) задач. И чтобы преодолеть этот разрыв, детей с малолетства учат методам оперирования со статическими знаковыми средствами: буквами, цифрами, словами, числами, рисунками, чертежами, схемами. И у разных детей успехи в этом обучении - разные. Есть и такие, которым это обучение вообще не дается в силу разных индивидуальных обстоятельств., но сменить способ мышления быстро не удасться"Пока народ безграмотен, главнейшими из всех искусств для нас являются кино и цирк", - так, по свидетельсту Луначарского выразился один не модный теперь политик.На современном языке это звучало бы так: - ...главнейшим из всех искусств является континуальное мышление., а вот традиционные методы утратить можно легкоХочу, чтобы меня правильно поняли. Я не против этого континуального. Как раз - наоборот. Потому что новые технические средства, вроде бы, предоставляют и новые возможности для этого. Но если для изобретения традиционных средств потребоваласть тысячелетняя традиция самых-самых продвинутых в свое время, то есть все основания полагать, что за одно поколение весь этот арсенал средств заменить на новый - не удастся. И вероятность эта - слишком большая, чтобы ею пренебречь..А это означает, что лет через тридцать-пятьдесят не останется ни одного человека, компетентного в традиционных методах и средствах. Потому что коммунистичесий принцип - разрушить до основанья, а затем ..., - становится господствующим в глобальном масштабе. А новые - иные, "континуальные" средства и методы окажутся не готовыми еще принять эстафету."Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее..."Каждый вечер пение мы уже наблюдаем. И с отоплением уже тоже заменты перемены к "новому".
- континуальное мышление изначально присуще человечеству
- ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (11)
- ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ (8)
- получение знания, максимально близкого к действительности
Континуальное мышление, критическое целостное — позволяет получить знание, максимально близкое к истине.Диалектическое мышление после анализа и синтеза обязательно ее сформулирует и зафиксирует в сознании , как самый большой "пик" и "легимитизирует" через проверку на законосообразность как достоверную объективную истину для последующих размышлений в других смежных областях ...
- КМ открывает путь к решению сложных проблем
Континуальное мышление открывает путь нашему сознанию к решению сложных проблем, буквально моментально принимать стратегических решения, разрабатывать инновации и понимать сложных систем.
- Построение "тензора цели"
В XXI веке всё острее ощущается необходимость в поиске новых способов управления развитием и техники, и общества. Очень вероятно, что таким способом станет ризоматический подход к построению «тензора цели» – многомерного вектора. Вместо двумерного «древа цели» или «вектора развития» нужно будет строить N-мерную численную матрицу для расчёта оптимального пути развития в пространстве, содержащем огромное количество переменных факторов. Это эффективное средство для многофакторной оптимизации в том, однако, нетривиальном смысле, что факторы здесь могут иметь абсолютно разную природу и размерность (и инженерную, и духовную одновременно).
- соединить мышление людей с разными логиками
Как работает мозг— достоверной картины пока нет, но возможно разберутся. Хотя это не настолько актуально, поскольку ответ как работает мозг в математическом аспекте это проблема логики, последовательности применения понятий, суждений и умозаключений, законов логики.( по сравнению с представлениями "механицистов" ( биологов, учёных изучающих физические аспекты - т.е. как говорят - "железо")Идет интенсивный способ принятия разумных решений, и основа таких решений — знание предметной составляющейДля реального принятия решений есть масса приемов в сфере знаний по управлению. По управлению социальными процессами - есть много очень разумных "технологий" - о чем может рассказать Олег Бондарь . В системах управления давно и упорно ищут приемы принятия разумных решений, посредством организации процессов принятия решений с использованием природных "машин" - голов тех, кто принимает решения..Очевидно, что основой для принятия решений есть знание предметной составляющей ( ориентация в вещах, отношениях к вещам, соотношениях вещей, отношении лиц между собой в виде консенсуальных и реальных отношений, представлении о последовательности физических явлений и процессов ( если нужно, а нужно часто, точнее почти всегда), учёт возможных ошибок и сбоев.При организации совместной деятельности, вряд ли стоит привлекать людей с разной логикойТехнологические достижения людей ( не человечества, а корпораций и коопераций - отдельных людей, сотрудничающих вместе - показали результаты совместных усилий на основании Организации совместной деятельности., особенно без логики юридическойНа мой взгляд ошибкой будет простое, без соотношения с конечной - реальной, вещественной целью - вовлекать в процесс неорганизованные в "мозговые центры" субъектов совместной деятельности с разными логиками участников, если их метафизические или смешанные операционные системы несовместимы.К примеру, если взять человека с массовидным мышлением и невежеством в юридической сфере знаний и предложить ему выдать решение с юридическим содержанием ( по критериям сущности, как истины бытия, меры, соотношения количества и качества - см. Наука логики Гегеля). - то правильный результат может быть получен с очень малой вероятностью возможного.Оказалось, что привлекать к решению вопроса людей САМЫХ РАЗНЫХ (с разными логиками, знаниями, опытом, культурой, идеологией и проч.) — НЕВЕРОЯТНО ПЛОДОТВОРНО (получаются неожиданно хорошие результаты).Более того, РАЗНООБРАЗИЕ людей осознано как самый ценный ресурс человечества.На первый план выходит КОНТИНУАЛЬНАЯ логика и КОНТИНУАЛЬНОЕ мышление, свойственное человеку изначально.. Способ организации столь разных людейБез наличия в интеллектуальной составляющей программ (логистики) юридической логики с опорными понятиями - результат может быть следствием случайности ( правда я больше имею ввиду не качества спонтанных "юристов", а "легистов" - т.е. тех, кто может в существующей системе нормопонимания - воспроизводить "юридические" (легистические знания, проявлять ум и разум, как способность различное видеть в единстве с действиями и результатом ( мыслимым и реальным)., вряд ли может претендовать на разумный уровеньСрез возможной произвольной последовательности - это, на мой взгляд, - очень простой, способ организации сложения идей, какой не может претендовать на повторение работы реального мозга ( как организационной формации по восприятию, обработки, систематизации в порядки и использование в логических явлениях знаний, как проявление ума. Более того, есть существенные различия между предрассудками, рассудками, умом и Разумом..А что такое Разумный уровень это результат и оценочный и может быть спорным и может быть и не быть в конкретных ситуациях уместным. Кроме конечно воли богов.Но разумные современные люди в с основном то знают, что бога или богов нет, поскольку это фантомы предрассудков ( дорассудочного состояния интеллекта примитивных особей гомо).Люди плохо понимают, что такое мышление, и мы не претендуем сказать новое слово в теории, поэтому сосредоточили усилия на ПРАКТИЧЕСКИХ экспериментах.
- соединение и договор в разных логиках
С точки зрения бинарной логики, "соединение" - это конечный результат (соединено / не соединено).С точки зрения континуальной логики "соединение" - это процесс. (так же, как и "договор") Можно уточнить формулировку "процесс соединения".Возникает непонимание, читатели приглашаются для волонтёрской работы над процессом договора, а им кажется что им сейчас покажут готовый окончательный документ ОД.Основное значением слова СОЕДИНЕНИЕ — процесс.Соединение — процесс изготовления изделия из деталей, сборочных единиц (узлов), агрегатов путём физического объединения в одно целое.Динамичность 4D-договора — показывает его как ПРОЦЕСС, а текущее состояние является РЕЗУЛЬТАТОМ.
- Общий результат получается ризомным сопряжением
На "Простір злагоди" идет работа на Общий Результат, но здесь нет усреднения и демократииМы здесь не спорим — дополняем, улучшаем, уточняем, находим ошибки и пытаемся их исправить — работаем на Общий Результат.— здесь неарифметическое ризомное сопряжение . Полный консенсус получается с помощью Метода ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ.В том и вопрос - каким образом добиваться ОБЩЕГО рационального результата?Демократия - это всегда усредненный результат.
- КЛ позволяет запустить генерацию синергии
Нагадало, як років 10 тому вигадував власну математичну мову, з одним лише постулатом: кпд системи > 1, або 2>1+1підозрюю, що у світі кожне явище є системою. Моя математика була спробою описати не через параметр рівноваги), А через градієнт змінної.если КПД системы > 1, то 1+1>2 - это синергия, которая получается в когнитивных сетях КР достаточно высокой и даже может быть запущен процесс получения "цепной реакции" синергии -
- получение Разумного общества
Сейчас с использованием более сложного КОНТИНУАЛЬНОГО мышления (в отличие от БИНАРНОГО) удается во всех случаях получать сложные объемные (4D) решения, которые позволяют избавиться от конфликтностии получить РАЗУМНОЕ общество
- "конфликт подружек из-за апельсина"
Традиционный пример: конфликт подружек из за апельсина. Одна хочет сделать сок или желе, а другая цукаты.Одна возьмёт ВСЮ кожуру и сделает цукаты, вторая возьмёт ВСЮ мякоть. Потери сторон нулевые. У обеих только выигрыши. 1=2А вот и win-win синергия. Причем положительная синергия достигается за счет многомерности !! 2D, 3D и тDДа, неконфликтное общее решение и получается выходом во многомерность разных факторов и замене бинарного мышления (ИЛИ-ИЛИ) — интегральным и континуальным (с бесконечным множеством вариантов).
как коллективный субъект- РАЗУМНОЕ ОБЩЕСТВО (раздел)
- Разумное общество (4D) (254)
, способный решать любые свои вопросы "всем миром" .- СТАТЬ СУБЪЕКТОМ В МИРЕ (сборка) (225 смыслов)
- Коллективные Разумные Субъекты
Осознанность Разумного общества непрерывно растет с 2013 года по всем общественно-значимым вопросам.- ТЕМАТИЧЕСКИЙ каталог КР (625)
- "конфликт подружек из-за апельсина"
- получение знания, максимально близкого к действительности
- СЛОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
- Отказаться от закона сохранения размерности
Но прежде предстоит сделать поистине «героический» для «настоящих учёных» шаг: отказаться от одного из самых главных и «абсолютно верных на все времена» научных принципов XX века – закона сохранения размерности. Для многих учёных и инженеров он архиважен, вероятно, даже важнее закона сохранения энергии. Именно принцип сохранения размерности сыграл огромную созидательную роль в развитии техники.Однако в XXI веке в этот закон почти наверняка будут внесены существенные поправки, изменяющие границы его применимости. Ныне физики убеждены в «очевидной» целесообразности вечной консервации принципов инвариантности, многие из них кажутся им нерушимыми. Но уже нельзя не видеть, что через бастионы «нерушимых истин» прорываются животворные ростки нового…
- надо не скатиться в утопию
Главное, чтобы он учёл ошибки и "проблемы утопий", которые возникали в различных общественных формациях.Неплохо эти проблемы освещает проф. С.В. Савельев - "Проблемы утопий":
- надо учитывать биологическое `осознание` масс
Надо учитывать, что основная масса людей в социуме всё-таки имеет формы поведения гормонально-инстинктивные, которые относятся к первичному `псевдосознанию` (биологическому `осознанию`) и это проблема для социального согласия.
- Отказаться от закона сохранения размерности
- ПЕРСПЕКТИВЫ
- Ризома-компьютеры
Пора вспомнить легенду (или быль?) о том, что российские математики из Института математики им. В.А.Стеклова (1863/64–1926, советский математик, академик АН СССР) ещё в 30-х годах прошлого века разработали соответствующий математический аппарат для внедрения ризоматической логики. В частности, эта математика успешно применяется в так называемых квантовых компьютерах, где вместо тривиального перебора вариантов используется схема одновременных параллельных расчётов cразу по множеству путей с периодическим «схлопыванием» промежуточных результатов между собой. Легко представить, какие сказочные прикладные перспективы имеют такие ризома-компьютеры.
- Ризома-компьютеры
- РИЗОМЫ В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ
- Ризомная логика и внешние воздействия на кристалы
Великие мира науки уже многое сделали для решения этого вопроса. Например, Пьер Кюри ещё 100 лет назад предложил конкретную математическую процедуру применения фактически ризоматической логики для описания внешних воздействий на кристаллы. Учёный-классик науки, как это бывает, опередил время: «дисимметрия по Кюри» – по сути ризоматическая логика, позволяющая изучать многие физические взаимодействия и прогнозировать их результаты.(Кюри П. Избранные труды, Изд. М. – Л.: Наука. 1966, с. 60)
- Ризома в музыке и философии
Лучшие представители творческих специальностей (музыканты, художники) также используют в своём искусстве ризоматическую логику, здесь они намного опередили «технарей». Всемирно известная группа «Роллинг Стоунз» – тому яркий пример; название их группы «Перекати-поле» – это вариант ризомы, растения без вершков и корешков. А их музыка, как мне кажется, замечательно гармонизирована как бы с помощью того самого «камертона», о котором сказано выше.Некоторые философы и искусствоведы предпринимали попытки исследовать феномен ризоматической культуры. По их мнению, любая упорядоченность cо временем непременно приобретает древовидную конфигурацию. Деревом проросла, как полагают Ж.Делёз2 и Ф.Гваттари3 (Delenze G., Guanttari F. Rhizome: introduction. Paris, 1976), вся западная культура, что значительно ограничивает ее спонтанность, творчество и свободу. И вообще «у многих людей дерево проросло в мозгу», их решения и действия страдают одеревенелостью.
- LLM лишь коряво имитирует KM
Может кому-то покажется странным, но Transformer architecture, система на которой основана современная\нынешняя метода работы LLM (Большие Языковые Модели), или как её обзывают ИИ(Искусственный Интеллект) вкорне не приспособлена работать в режиме континуального мышления, а лишь коряво имитировать его.
- Ризомная логика и внешние воздействия на кристалы
- ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ (8)
- РИЗОМА И КОНТИНУАЛЬНАЯ ЛОГИКА (3)
- Антихрупкость ризомы
Что касается ризомы, то она не имеет связующего центра в виде какого-то единого корня. Это непараллельная эволюция полностью различных образований, происходящая не за счёт дифференциации, членения, ветвления, а благодаря удивительной способности перепрыгивать (переползать) с одной линии движения (развития) на другую и черпать силы из разности потенциалов.Как трава, пробивающаяся между камнями мостовой, ризома всегда чем-то окружена и растёт из середины, через середину, в середине.Ризома в постмодернизме уподобляется растению (например, перекати-поле – род спорыньёвых грибов, 1000 видов папоротников и т.п.), которое стелется и переваливает через препятствия (борозды, канавы, ямы) именно из-за того, что его теснят, ограничивают, обступают со всех сторон так называемые «культурные» растения. И чем сильнее это давление, тем шире радиус действия данного «сорняка», тем дальше он выбрасывает свои щупальца-отростки, тем больше периферийной земли становится его жизненным пространством.Место ризомы там, где трещины, разломы, пустоты, бреши и другие провалы природного ландшафта и человеческого бытия. Она их легко преодолевает. Для неё нет непроходимых границ, какими бы – естественными или искусственными – они ни были. Ризома учит нас двигаться по «пересечённой местности» нашего бытия. Она умножает стороны, аспекты, грани исследуемой реальности, превращает круг в многоугольник или шар в многогранник.
- Голографический метод передачи информации
Важно отметить ещё одно судьбоносное, репродуктивное свойство ризомы. Даже самая малая часть этого растения содержит полную информацию обо всём организме. Здесь на практике природа демонстрирует уникальный голографический метод передачи информации и наследственных признаков.
- Ризома - символ хаосмоса
Если дерево – символ порядка, целого, то ризома – символ хаоса, а точнее, хаосмоса [хаоса + (кос)моса]. Ризоматическая логика очень хорошо работает в многомерном мире, она идеально подходит для проведения многофакторной оптимизации и помогает сопрягать «несопрягаемое», обеспечивает конвергенцию традиционных наук и духовных заповедей.Перед каждым из нас – простых смертных – впервые открывается реальная перспектива: шанс с пользой и моральным комфортом потратить свои жизненные силы во благо человечества. Выбору правильного – праведного – пути, несомненно, поможет ризоматическая логика.
- Антихрупкость ризомы
- РАЗНОЕ О КОНТИНУАЛЬНОСТИ (9)
- разделение у суперкомпьютера Вселенной — ядро или оболочка
Суть в том, что Вселенная — это гигантский суперкомпьютер, а Разум (Дух) суть ядро вселенского «Windows».Дух творит из себя (вакуума-ничто), а как Разум (вычислительный ресурс) одновременно считывает и упорядочивает квантовые частицы в вселенском радиально-голографическом формате.Специфическое для данной формы (системы) развития Вселенной противоречие развертывается, обостряется и разрешается Духом Вселенной. Так она как единая континуальная сознающая Система переходит к следующему уровню (формату) организации кодов Разума — новой бинарной оппозиции «ядро — оболочка».
- коммуникация, связанная с пониманием — приобретает континуальность
Есть 2 разных процесса - коммуникация и понимание.А термин "осмысленная коммуникация" тоже может оказаться неточным, т.к. имеет целью "осознавать саму коммуникацию", т.е. обслуживает первое слово из этой парочкиКоммуникация может быть эффективной, результативной, полной, однозначной, прямой, косвенный, сразу и отложенной, и т.д.когда коммуникация связывается с пониманием, она теряет дискретность и многие перечисленные здесь свойства становятся неопределяемыми и континуальными.
- новый способ познания для человека и мира
- прежний:
- автор изложил свое мнение и пытается насунуть на головы другим людям
- у людей свои вопросы и проблемы — им приходится искать ответы в сотнях книг
- новый:
- человек идет к тому, что его интересует, а сотни авторов помогают
ему на каждом шагу
- в мелочах
- отвечают ему на конкретные маленькие вопросики
- не навязывают свою точку зрения на ВСЕ, как в своей книге
- идет к цели в сотни или тысячи раз быстрее и интересней
- впереди встреча Нормы и Антинормы
Все испытания еще впереди. И базой выступит исторически беспрецедентная "встреча" двух взаимоисключающих метаоснований. Нормы и Антинормы. Причем рассматривать эту встречу в рамках критериев "норма-патология", где одни "правильные",а вторые "нет" не приходится.Эволюция "нормативности":
- Чистая Сила (волюнтаризм)
- Закон (этатизм).
- Право (юридизм)
- 4.????? Предполагается "цивилизм".
Если совсем просто то встречаются "Бог" и "Антибог". Противник не "сатана", не "ди-авол".и действительно все так ))"Норма/не норма" — это все та же бинарная логика (логика разделения и войны), мы сейчас действуем с позиций континуальной логики, где нет разделения, нет категорий, нет сравнения, нет войн и конфликтов, при этом все удовлетворены результатом и никому не приходится ни от чего отказываться или как-то меняться — но это сегодня, как правило, воспринимается как антинаучный бред.Но сегодня провести границу "Норма/не норма" уже не получается, так как она проходит по каждой стране и по каждому человеку. Это хорошо рассмотрено в сетевом исследовании (4D) Как победить в Большой Войне?у Сомова встреча Нормы и Антинормы, а вы проинтерпретировали в рамках "старых" представлений "норма-не норма". Антиматерия сравнительно недавно открыта "физиками".континуальная логика как раз и выступает в роли антинормы для пары "логично/не логично", и это не "другое правило" — это отсутствие правил. И в ризомном взаимодействии между вашим и моим комментарием нет противоречий. - хотелось бы ясности с Ноосферной стадией цивилизации
Victor Lougovski Хотелось бы ясности. С Цивилизацией. С ее Ноосферной стадией.Что за третья волна и где ее источник? Есть определенный процесс разрушения Ноосферы и он отражён для нас в виде циклов Кондратьева. Сейчас наступает последний - шестой. Это физически объяснимо.Можно изучать стадии разрушения цивилизации, но можно и проращивать уклад новой эпохи — эпохи сложного мышления и сложных решений: сейчас с использованием более сложного КОНТИНУАЛЬНОГО мышления (в отличие от БИНАРНОГО) удается во всех случаях получать сложные (4D) решения, которые позволяют избавиться от конфликтности и получить РАЗУМНОЕ общество как коллективный субъект, способный решать любые свои вопросы "всем миром". https://goo.gl/rQdkXR uk.wikipedia.orgVictor Lougovski бинарно пространство выводов, процесс мышления имеет место быть в многомерной структуре мозга и происходит, фактически, на границе его пространств.Это к тому , что значительного ветвления процессса мышления не существует . Выбор делается в плоскости вывода. Система человека такова.Да, правильнее говорить о бинарной и континуальной логике, мышление лучше не трогать, ведь никто сегодня не знает достоверно, как человек мыслит. )Хотя могу сказать, что логика таки формирует и мышление.
- формирование человека социумом нелогично
Непонятки — это результат безначального основания для рассуждений рассматриваемого.Если стоять на позиции о возникновении организации сознания как результат общественного, то мы приёдем к непоняткам.Важно заметить абсурдность этой позиции. В натуре всегда всё имеет начало с одного. После будет + 1. Поэтому о развитиии из общества речи быть не может, если мы уважаем и придерживаемся логики.Сами судите:"А-общ. формировало всех людей, но не всех сформировало человечными" - видно что для формирования ЦЕЛИ, необходимо знания о ней. Чтобы сформировать человека - человек должен уже БЫТЬ!!!Человечность это состояние осознанного поддержания жизни. Следствием определения жизни есть СОЗНАНИЕ. Осознанное поддержание жизни и как следствие самого сознания не предпологает отказа от сознания ЛИЧНОГО в пользу оющественного. Поэтому любое коллективное убивает человечность. Это ещё древние поняли и формализовали в словосочитании "Закон мёртв".Смотря какой логики придерживаться. Мы стараемся вернуться к континуальной логике, которая свойственна человеку изначально, поэтому ни на какой из позиций не стоим (не ИЛИ-ИЛИ, а И-И).Речь шла про отсутствие неправды/противоречий.Разделение на правду/неправду, адекватное/противоречивое — это все из бинарной логики
- Ментальная основа коммуникаций
Ментальная основа коммуникаций становится принципиально иной. Классические мемы и принципы: «свой/чужой», «правда/истина», «добро/зло», «нужно договариваться», бинарное (а не континуальное) мышление, фиксированные (а не динамические) выводы и т.д. в КР перестают работать как менее эффективные в снятии конфликтов.Общее и целое собирается теперь на ризомных и неконфликтных, внеоценочных технологиях. В результате любая личная точка зрения/интерес, которая и может быть конфликтной, переводится из бинарной позиции в континуальную, которая потом обрастает объемом за счет новых дополнений от КР – позиция становится дисперсной и за счет этого неконфликтной.Это соответствует цивилизационной задаче перехода к целостному мышлению и мировоззрению, о котором говорится и в юбилейном докладе Римскому Клубу. Но целостность в КР двоякая и разная – сводное видение (4D-текст) всех и личное видение внутри КР каждого, и оно не фрактально общему и не обязано таковым быть.Римский клуб, юбилейный доклад. Вердикт: "Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!" [Электронный ресурс]//сайт «Планета КОБ». URL: https://www.planet-kob.ru/articles/6832 (дата обращения: 01.02.2018)
- удержание разного в расширяющемся конфликтном многообразии
Основание иного Владимир Никитин, Юрий Чудновский ИсточникЛогический фокус работает на последовательное различение разных форм мышления и деятельности, умножает проявленные и возможные формы человеческого существования и имеет своей базовой проблемой удержание разного в расширяющемся конфликтном многообразии.Символический фокус работает на изначальное единство и тождество всех проявлений бытия, на сведение многообразия к одному – к единому происхождению, к единому основополагающему конфликту и имеет своей базовой проблемой сведение разнообразия к единому в разорванном мире.Эти два фокуса взаимосвязаны и задают возможность динамики в изображении истории: – смена базовых метафор задает иной язык и картину изменений, смена логик порождает новые объекты и картины мира, по отношению к которым проступают новые базовые метафоры, и т.д.
- Новый метод управления процессами
Трудно, но нужно найти в себе смелость признать, что в начале XXI века на наших глазах происходит смена научной парадигмы – реализуется переход от техногенной (библейской) цивилизации к новой системе построения человеческого сообщества.Нам, простым смертным, не дано детально, в режиме on line описать смену эпох, но некоторые новые принципы уже приобрели вполне определённое содержание или как минимум чёткие контуры. Понятно, например, что нужно срочно найти способ одновременно управлять множеством параметров различной размерности. Надо научиться сопрягать несопрягаемое: тонны и километры, духовное и телесное….Вот для этого принципиально неарифметического сопряжения может оказаться полезной новая так называемая ризоматическая логика. Она создаёт основу нового миропонимания и включает реальный эффективный механизм действия нового метода управления социальными, техническими и научными процессами.
- разделение у суперкомпьютера Вселенной — ядро или оболочка
------------------------------------